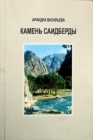Ариадна Васильева
К А М Е Н Ь С А И Д Б Е Р Д Ы
рассказы об акбулакском братстве
Эта книга для любителей природы, для тех, кто хоть раз в жизни побывал в горах, ясно видных из Ташкента при хорошей погоде. Они кажутся близкими, манят заснеженными гордыми хребтами.
Читателя ждет увлекательное путешествие в заповедное урочище Майдантал, на берега уникальных по красоте горных рек Чаткальского хребта.
© Ариадна Васильева. Камень Саидберды.
Первый, кто, огородив участок земли, сказал «это мое» и нашел людей достаточно простодушных, чтобы этому поверить, был подлинным основателем гражданского общества.
От скольких преступлений, войн, убийств, несчастий и ужасов уберег бы род человеческий тот, кто, выдернув колья или засыпав ров, крикнул бы себе подобным: «Остерегитесь слушать этого обманщика; вы погибли, если забудете, что плоды земли – для всех, а сама она – ничья!»
Жан-Жак Руссо.
Что я могу сказать об этих горах! Эти горы очень высокие. Одна маленькая девочка восхитила когда-то Чехова, сказав: «Море было большое». Вот и я (правда, совсем взрослая) говорю – горы высокие, и на первых порах ничего другого не в состоянии добавить. И пусть тысячу раз «лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал», лучше этих гор в моей жизни не было. Будь моя воля, я бы их ни на какие другие не променяла. Но моей воли тут нет. В конце девяностых годов в урочище Майдантал вторглись банды террористов, и все изменилось. Нет, горы как стояли на своих местах, так и стоят, но жизнь, что копошилась у их подножий, стала иной.
Террористов, они принесли в наши горы зло, уничтожили, но исчезли пасеки, разрушился домик Хасана Терентьевича, а на месте «Белого дома», гордой резиденции Алика – долговременная огневая точка. Блок-пост.
Да и от былого акбулакского братства в Ташкенте уже почти никого не осталось. Остались фотографии, остались воспоминания да есть компьютер, способный запечатлеть их в словах. Попробуем…
ДОРОГА НА МАЙДАНТАЛ
Впервые мы приехали на Большую поляну у слияния рек Акбулака и Тереклисая на грузовой машине. Нас было несколько семей, мы были молоды; как большинство советских инженеров и учителей, выражаясь эзоповским языком, необычайно распространенным в ту эпоху, постоянно находились в стесненных материальных условиях; наши дети были малы. Кажется, это был 1976 год. Вот уже и «кажется», уже надо сидеть и считать по пальцам, когда это было. Впрочем, не важно. Одним словом, в середине семидесятых годов.
Приехали на грузовой машине, жили в палатках, взятых на прокат, ели спартанскую пищу, и навсегда влюбились в эти места.
Через пару лет, исключительно ради Акбулака, муж купил автомобиль на деньги, взятые в долг у одного хорошего человека. С выплатой в рассрочку.
Это был старенький-старенький горбатый «Запорожец» из серии «Чебурашка» (так в нашем кругу назывались эти игрушечные машины), способный чихать, кашлять и останавливаться в самых неподходящих местах. Но надо отдать ему должное, в трудных походах он всегда вел себя молодцом.
Постепенно стали обрастать вещами. Еще через некоторое время появилась купленная по большому блату роскошная польская палатка. С тентом, предбанником и брезентовым полом. В ней мы свободно размещались вчетвером, и еще оставалось свободное, закругленное место в изголовье, где можно было складывать одежду и запасы консервных банок. А какой уютный был наш полотняный домик по вечерам! Мы расстилали поверх тощих матрасов мягкие ватные одеяла, зажигали фонарь, при свете его можно было даже читать, и глаза наши в тесном мирке, отделенном от дикой природы лишь тонким ситцем внутренней части и плотной непромокаемой тканью полога, отдыхали от яркого солнца, от всего, непомерно прекрасного, пережитого днем. Так и видится она мне со стороны, среди молодых деревьев, озаренная изнутри тихим оранжевым сиянием.
Много позже обзавелись складными креслами (надоело сидеть на камнях), а всякие там чашки, ложки, казаны, сковородки не стоит перечислять.
Жили, как все. Год в работе (я – в школе, учительницей русского языка и литературы, муж – инженер в проектном и научно-исследовательском институте по ирригации и проектированию больших и малых гидротехнических сооружений), летом отпуск.
С весны, как правило, ждем, не дождемся, и вот, наконец, он настал!
Дети (у нас их двое: мальчик и девочка), нервничают и пристают по пустякам. Через два дня едем, а ничего не готово! Сыну Никите в тот год, с которого я начинаю подробный рассказ, было двенадцать лет, дочке Наташе восемь, и они уже были закаленные путешественники. А к первой нашей поездке я еще непременно вернусь.
Начинаются сборы. Составляется длиннейший список нужных вещей. Едем не на один день, на месяц. Потом эти вещи тщательно пакуются. В назначенный день их выносят из квартиры во двор, возле вымытого до блеска «Чебурашки» образуется гора всякого необходимого, жизненно важного барахла. Соседи дивятся. Неужели такая кроха, этот вечно подвергаемый осмеянию, анекдотический «горбатый» сможет поднять такую тяжесть? Да оно все туда просто не поместится!
Поместится, если грузить с умом. Снять, например, заднее сиденье и оставить дома, вместо него положить на пол пакеты с мукой, рисом, банками тушенок и сгущенок, сверху палатку, два матраса и одеяла. Компактно, мягко, и детям удобно, и собаке Топси есть, где разместиться. Кто-то скажет: «Они еще и с собакой!» А как же. Собаке в горах раздолье, не оставлять же ее одну в квартире. Еще кто-то скажет: «Ну, теперь они точно с места не сдвинутся!» Ребята… Кто знал до конца возможности горбатого «Запорожца»? Скажите нам, кто?
И вот мы уже на Кольцевой, вот свернули на Кибрай, а там, глядишь, через некоторое время Чирчик, Газалкент, Чарвакская плотина и… первый подъем на серпантин.
Еще на Кольцевой дороге Никита вдруг сказал:
- Пап, у тебя в моторе что-то стучит!
Как известно, мотор у «Чебурашки» сзади. Папа сказал:
- Ну-ка, приложи ухо и послушай внимательно.
Никита изогнулся, приложил ухо к стенке.
Я подумала: «Господи, неужели придется вернуться?»
Через некоторое время муж снова спросил:
- Ну, как?
- Стучит.
- Как стучит?
- Потихоньку. Тук-тук-тук.
Мы съехали на обочину, Кирилл Владимирович полез в мотор. Как будто ничего страшного.
- Ладно, доедем, - решительно сказал папа, сел за руль и нажал на газ.
Не очень крутой и не очень долгий подъем к Чарвакскому водохранилищу мы одолели без остановки. Поднялись, встали остужать запыхавшуюся машину.
Сразу стало тихо. Только утренний ветер хозяйничает в кронах невысоких, еще совсем юных тополей. То листве отвернет изнанку, засеребрит, то заставит лопотать что-то неразборчивое, непонятное, но такое земное, милое.
Мы оставили папу ковыряться в моторе, искать, уже в который раз, причину надоевшего постукивания, а сами перебежали дорогу, вскарабкались на невысокий холм с красным глиняным откосом, поросшим голубовато-зелеными готическими розетками.
На макушке его с давних пор возвышалась неуклюжая, ободранная статуя горного козла с отбитым рогом. Мы бросили на него беглый взгляд, потом посмотрели вниз и замерли от восторга.
Перед нами открылась… Как жена ирригатора, я должна сказать по научному: открылась чаша водохранилища. Но и без всякой науки это была именно чаша, наполненная для пира невиданных великанов.
Вода в ней отливала, где синью, где зеленью оттенка павлиньего пера, со всех сторон не давали ей расплескаться, давили и удерживали в берегах высоченные, могучие хребты, уходящие вдаль, в туманную дымку. И только внизу, маленькая и аккуратная по сравнению с остальным хаосом горного мира, преградой для нее служила насыпная плотина, замыкая выход из превращенной в огромное озеро долины.
Мы вдохнули чистый, еще не прогретый воздух. Мне показалось, что им и надышаться нельзя. Такой воздух следует пить, словно старое, выстоявшееся вино, смакуя, маленькими глоточками. От всего этого упоения слегка кружилась голова, и сладко щемило сердце. А рядом стояли дети, притихшие, счастливые.
Но папа не позволил расслабляться, предстоял еще долгий путь и тяжкие испытания. Он посигналил, мы сбежали с холма, расселись по местам и покатили дальше. Вокруг водохранилища в сторону Чаткальского моста, в сторону Бричмуллы (теперь она называется Бурчмулла, но мне привычнее старое название). Минут через сорок прогремели под колесами железные настилы моста, но в Бричмуллу мы не поехали. Не доезжая двух километров до нее, нам полагалось свернуть направо, в ущелье. Оттуда гремя на перекатах, кружа в водоворотах, мчался на встречу с водохранилищем грозный Чаткал.
Горные реки не широки, но, стекая с высот, ледяная вода сметает все на своем пути, ворочает глыбы. Только рыба осмеливается плыть против течения, выпрыгивая в воздух на порогах и перекатах.
Мы свернули вправо, и тут сразу кончился асфальт. Из ста двадцати, нам осталось проехать восемнадцать километров по узкой, разбитой грузовиками, то глинистой, то покрытой щебенкой и гравием колее.
Вначале ничего страшного не было. Дорога вилась по отлогим холмам, только окна пришлось закрыть – за нами стлалось густое облако рыжей лессовой пыли.
И вот первое испытание. Недолгий, каменистый спуск к нешироким и мелким ручьям. В этом месте, выбежав из бокового ущелья, река Пальтау разливается множеством мелких рукавов. И все бы ничего – мокро. Того и гляди, машина пойдет юзом.
Обошлось. Резкий поворот, и мы оказываемся перед затяжным и крутым подъемом, сплошь усеянным острыми камнями.
Праздные пассажиры высаживаются. Наташа ведет собаку, мы с Никитой идем следом за машиной, сохраняя дистанцию на всякий случай. Заглохнет мотор, нам придется толкать «Чебурашку».
Но наш перегруженный малыш тянет и тянет вперед, кряхтит, воет, скрипит всеми суставами. Наконец, переваливает через последний, самый подлый уступ и с облегчением останавливается. Муж выходит из машины, мы подходим к нему, становимся рядом и смотрим вниз.
- М-да, - говорит наш мужественный водитель.
А больше и сказать нечего. Но расслабляться рано. Предстоит еще два часа пути со скоростью черепахи. Здесь не разгонишься.
После Пальтау правый берег раздвигается, дальние горы прячутся за ближними отлогими холмами. Дорога почти ровная, но к левому берегу уже подошла вплотную отвесная, сумрачно-серая стена, сложенная из синклиналей и горизонталей, а проще говоря, из каменных нешироких пластов. Высоко-высоко, на макушке ее, виднеются редко расставленные елки. Снизу, они кажутся маленькими, не больше спички, а на самом деле это высоченные, мохнатые деревья. Отсюда начинается царство арчи.
Едем дальше. Пока есть возможность, пока есть простор, объезжаем вросшие в землю валуны. Но вот из-за холма начинают выползать скалистые вершины, они подступают все ближе, ближе, дорога становится хуже, хуже. Горы сближаются. Теперь и с нашей стороны стена, почти белая, чуть тронутая светлой охрой, ослепляющая отраженным светом, и близкая, кажется, ее можно тронуть, если хорошо вытянуть руку. Справа отвесный обрыв, а на дне пропасти клокочет, беснуется и притягивает опасливые взоры Чаткал.
Я стараюсь не смотреть вниз. Сижу, напряженно, сцепив руки, и молюсь: «Горы, миленькие, пропустите. Мы будем себя хорошо вести, ничего плохого не сделаем. Наши помыслы чисты. Мы вас очень любим. Пожалуйста»…
Наверное, я ужасная трусиха, хоть виду не подаю. Всякий раз дрожу за детей, ругаюсь про себя за то, что мы вновь премся, черт знает, куда, по этой сумасшедшей, нарочно подкладывающей под колеса самые острые камни, дороге.
Но к слову, за все время наших поездок на Акбулак, а ездили мы туда (с перерывами, конечно), больше двадцати лет, произошла (не с нами) всего одна трагическая авария. Неопытный, но лихой водитель не затормозил при обратном выезде на Пальтау. Машина вылетела на противоположный склон и перевернулась. Мы не знали сидевшего за рулем человека, это был какой-то новичок, и поездка обошлась ему дорого. Горы не терпят лихачей, они требуют к себе уважительного отношения.
Еще были испытания: крутые повороты, петли дороги и подлые камни, способные в один миг сорвать глушитель или протаранить дно машины. Был Черный спуск, где-то впереди ожидал Мокрый подъем… А еще на узкой дороге опасно было наткнуться на встречный автомобиль. Тогда кому-то пришлось бы долго пятиться назад, искать место, где можно разъехаться, не причиняя вреда друг другу.
Машина тихо ползла мимо белых меловых скал; тряслась на ухабах возле серых скал, зловещих и равнодушных к нашему присутствию, а вокруг медленно кружилась, разворачивалась, внезапно исчезала на какое-то время, и всякий раз неожиданно появлялась вновь череда хребтов, поросших лиственными и арчовыми лесами.
Одолев еще один сложный отрезок пути, мы переезжаем по уютному деревянному мосту через Чаткал. На какое-то мгновение вспоминаем, что где-то в мире существуют ровные дороги, без тряски, без резвых скачков.
Гремящий зеленый поток уходит на север, в Киргизию, человеку с богатым воображением можно и отдышаться. Отвесные пропасти, жуть Чаткала, - все кончилось. Слева от нас мирно шумит на перекатах долгожданный, такой безопасный после пережитых волнений, почти ручной Акбулак. Но это кажется. Горная река – есть горная река, и Кирилл по-прежнему не теряет бдительности.
Бедного «Чебурашку» подбрасывает на ухабах. Скорость местами меньше пяти километров в час. Вползаем на очередной бугор, и внезапно открывается следующий трудный отрезок пути – Полутуннель. В массивной скале взрывами выгрызен узкий проход. Тяжелая, желтая скала козырьком нависает над резко сузившейся дорогой, оставляя открытым пространство, обращенное к реке. Но к этому месту еще надо спуститься по острой щебенке, по крутому откосу, вниз.
Сбоку дороги – знак: «Водитель, будь осторожен, высади пассажиров». Пассажиры высаживаются, Никита хмуро бухтит:
- Папа, прижимайся к скале!
Начинается спуск. Затаив дыхание, смотрим вслед машине. «Чебурашка» пробирается чуть ли не ползком. Под колесами не хрустят, нет, как-то зловеще хряпают камни. Чудится, еще минута, и наш умница автомобиль пойдет бочком, начнет вытягивать переднее колесо, ощупывать дорогу, и только потом подтягивать к себе остальные. Точно человек, спускающийся с горы.
Наконец он въезжает в Полутуннель, минует его, и вскоре скрывается за крутым поворотом. Теперь, переведя дыхание, можно идти следом.
Спотыкаясь, подворачивая ноги, спускаемся к Полутуннелю и входим в него. Посреди дороги разлита никогда не просыхающая зеленая лужа с одинокой лягушкой. Справа, со стороны уходящей к реке осыпи, хилое ограждение из воткнутых в землю арматурин. Я оборачиваюсь назад. Преодоленный спуск кажется зловещей, молчаливой стеной. Как-то мы взберемся сюда на обратном пути!
Под нависшими над головой карнизами вечная тень, сквозит ледяным ветром, хотя солнце уже перевалило за полдень, и на всем остальном пространстве тепло. Слишком тепло для нашего постоянно перегревающегося мотора.
Даем отдохнуть «Чебурашке» и едем дальше. То поднимаемся вверх, то спускаемся вниз почти к самому берегу, то удаляемся от него. Временами кажется, будто река бежит выше дороги. Но это кажется. Просто воде часто приходится перепрыгивать через обточенные за века валуны. Она с разгону взлетает поверх каменной преграды, рассыпает пронизанные веселым солнцем брызги, струйки и белую пену. Акбулак – белый ручей. Не зря его так зовут. А вода в нем холодная, вкусная. На первой же остановке возле берега, мы наклоняемся над ней, набираем в пригоршни этот жидкий хрусталь и пьем, пьем и не можем напиться. От жары можно отдохнуть – над нами благодатная тень прибрежных тополей, магалебки и каркаса - железного дерева. И климат уже совершенно другой, - незаметно мы поднялись довольно высоко.
Проходит два часа, если отсчитывать время от первого подъема на Пальтау, машина подъезжает к домикам егерей. Отсюда начинается заказник, как бы преддверие Чаткальского заповедника. На выгоревшей от солнца доске, прибитой к невысокому столбику, что-то в этом роде написано, но большей части слов уже не разобрать. Шлагбаум поднят, кругом тишина. Видно лесники ушли либо в Бричмуллу, либо по своим делам в горы. Посигналив, и не дождавшись ответа, уезжаем. Впереди мостик через приток Акбулака Саргардон, и еще десять минут езды. Скорость можно прибавить, горы немного разошлись, река мирно шумит внизу, под глинистым, невысоким обрывом с молоденькой арчовой елочкой на самом краю.
Это уже родные места. Здесь знаком каждый камень, известно, что будет за поворотом. Наконец, приближаемся к Большой поляне, где ждет нас густая тень тополей и орешин, где ждут друзья и долгожданный приют.
Заслышав сигнал (на подъезде полагается сигналить), нас бегут встречать загорелые, полуголые люди. Наташу увлекают куда-то подружки, Никита степенно, за руку, здоровается с Алешей Родиным (мальчишек в лагере почему-то немного, больше девочек), а нас с мужем обнимает, тискает и поздравляет с приездом взрослое население Большой поляны – великое акбулакское братство.
Кирилл в последний раз садится за руль. Включает зажигание, и «Чебурашка», совершив какой-то странный рывок, утыкается носом в кусты. На этом мотор умирает. Как-то не по-хорошему умирает, будто навсегда.
Мужчины, сшибаясь головами, тут же лезут выяснять странную немоту двигателя внутреннего сгорания, и через минуту выпрямляются с громовым хохотом:
- Кирилл, водила несчастный! Да у тебя ж маховик слетел!
Нет, каков «Чебурашка»! Ведь не на дороге, не в самых трудных местах сломался, довез до места, остановился, где надо, но не вынес еще одного включения и…
Целый месяц потом, в определенное время, бедный Кирилл Владимирович миллиметр за миллиметром высверливал вручную, коловоротом, в неподатливом, толстом железном диске новые отверстия вместо сорванных штифтов, загонял в них, какие нашлись, куски толстых гвоздей. Временно, только бы доехать обратно до Ташкента.
Но задуманное как временное часто становится постоянным. Так мы потом на этих гвоздях и ездили много лет пока не пришла пора нашему дорогому автомобилю рассыпаться на запасные части.
ЛОВИСЬ РЫБКА БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ
Мне придется часто говорить о рыбалке. Рыба была важным подспорьем в нашем ограниченном рационе. За мясом каждый раз в Ташкент не поедешь, а тушенка, в конце концов, приедалась. В Акбулаке и Тереклисае в те годы водилась крупная рыба маринка, в Саргардоне – мелкие, но необычайно вкусные османчики, двоюродные племянники форели.
Заядлых и удачливых рыболовов на первых порах было двое – Вадим Борода и Саша Безбородько. Оба работали в одном отделе проектирования крупных гидротехнических сооружений, оба были ведущими инженерами, и с давних пор дружили семьями.
Одно их различало: Вадим носил бороду постоянно, и фамилия его была Скворцов; Саше, в связи с фамилией, бороды не полагалось, но на Акбулаке он ее неизменно отращивал. Борода его носила, так сказать, сезонный характер. Таким образом, на рыбалку ходили двое бородатых, могучих по телосложению мужиков, а вот уловы у них получались не всегда одинаковые. Бороде больше везло. Он знал особенные рыбные места, и молчал, как убитый, когда его начинали про них расспрашивать.
Однажды (в более позднее время), был такой случай. Вадиму никак не давали отпуск. Он вывез и обустроил на Большой поляне жену и дочку Таню, сам каждую неделю приезжал на отдых под вечер с пятницы на субботу, а в воскресенье засветло уезжал.
В тот год лагерь был особенно многолюдный. На поляне стояло восемь или девять палаток. Возле врытого в землю длинного, сбитого из досок стола вечно колготились институтские дамы, занятые стряпней (в их компании я была единственным гуманитарием); на песчаном, нешироком пляже возились дети. Мужчины, кто занимался заготовкой дров, ломал сушняк, кто просто сидел на бревне возле берега и смотрел на быстро текущую прозрачную воду… Словом, все были при деле.
Вадим приехал около пяти часов вечера. Разгрузился, раздал всем, кто, что заказывал привезти из Ташкента, главным образом, сигареты и хлеб, огляделся.
- А рыба где?
Рыбы не было. Обычно к пятнице Саша успевал наловить садок маринки, а в этот раз не получилось.
- Саша, - обратился к другу Вадим, - ты что, просидел весь день на этом бревне?
- Я забросил пару раз, - лениво ответил Саша, - не клевало.
- Не клевало! Обленились, черт бы вас побрал. Сидят целый день и ждут: Вадим приедет, Вадим наловит, сам почистит, сам пожарит…
Злющий, ворчливый, схватил Борода удочку, сумку, сорвал с дерева горсть дикой вишни магалебки (маринка хорошо ловилась на вишню) и ушел из лагеря. Все видели, как он отправился вверх по течению. Мужчины проводили его виноватыми глазами.
Вдруг вскочил Никита, сдернул с протянутой веревки куртку, схватил удочку, бегом вскарабкался на откос, прикрывающий поляну от посторонних глаз, и ушел вниз по течению.
Да, за рыбкой приходилось ходить. Казалось бы, что стоит забросить удочку прямо с нашего пляжа. И таскай себе маринку за маринкой. Ан, нет. Никто, никогда, ни в какие года, ничего здесь не вытаскивал. Никто никогда, кроме одного раза.
Это произошло ранним, тихим утром. Солнышко только-только продрало глазки и улыбнулось. Чиркнуло лучом по реке, выбило искры. Едва касаясь лапками воды, полулетом, пронеслась против течения небольшая стая диких уток. Кто успел увидеть, у того перехватило дыхание. А успели увидеть едва проснувшиеся наши мужья, рассевшиеся в ряд на бревнышке. Сидели и млели. Это было заметно по их блаженным физиономиям.
Вдруг, откуда ни возьмись, рыбак. Со спиннингом и садком. И к нашим:
- Ребята, можно я здесь закину?
Те снисходительно ухмыльнулись:
- Закидывай. Что выловишь – твое.
Они же знали, что здесь никогда ничего не ловилось.
Незнакомец закинул. Минуты не прошло, он выдернул удочку. Чудо! На двух крючках трепетали две маринки.
Снял, положил в садок, снова закинул. И снова – раз! На крючке маринка. Одна, но в два раза крупнее первых двух. Зрители обомлели. Не может быть! А этот снова закинул, и снова две. Так он поймал семь штук, и на этом остановился. Не потому, что он продолжал закидывать, а у него не клевало. Нет, он просто прекратил лов, словно знал – на этом месте больше ничего не будет. Перекинул на плечо спиннинг, поднял садок, попрощался и пошел себе. Наши мужчины остались неподвижно сидеть на бревне с разинутыми ртами. Саша только успел крикнуть:
- Эй, мужик, ты на что ловил?
Тот остановился, пожал плечами.
- На вишню.
Впредь на этом месте больше никогда ничего не ловилось. Даже Хасан Терентьевич, уж на что, всем рыбакам рыбак, и тот подтверждал, что здесь даже на пробу забрасывать нет никакого смысла.
А место само по себе было прекрасное. Поросший арчой противоположный, «заречный», склон уходил в небеса. Циклопические скалы образовывали фантастические фигуры. Особенно при лунном свете там можно было увидеть голову сказочного богатыря, старика с клюшкой, льва, или нежный профиль девушки с длинными волосами.
Стоило выйти на мысок, крайнюю оконечность Большой поляны, открывался вид на заросшее тополями и тальником ущелье Тереклисая и могучий хребет водораздела. Начинался он со скалистой, не очень высокой, но с крутыми склонами и круглой макушкой горы. Густой арчовник на северной стороне делал ее мохнатой. Называлась гора Большой шлем.
Мы часто давали названия любимым местам. Невдалеке от поляны, если идти вверх по Акбулаку, прямо напротив родника находилась Бухта святой Алисы. Обычно все проходили мимо этого места, и даже не останавливались передохнуть на пути к облюбованной дальней купальне.
Но в один прекрасный день Ася Родина отбилась от шумной компании, села на траву под березкой, растущей на небольшом мысу, ушедшей корнями в воду. Река не шумела здесь, разлившись широким мощным потоком. Алиса Григорьевна долго сидела, смотрела на нее, темную, заслоненную горой от солнца, на видимый даже в тени язычок песчаного, уложенного гармошкой, дна. Мы стали торопить ее:
- Ася, пойдем, хватит рассиживаться.
- Ах, ничего вы не понимаете, вечно вы куда-то торопитесь, вечно вас куда-то несет - тихо сказала Ася. Поднялась, сбросила с себя ситцевый халатик, осталась в ярко-голубом купальнике. Осторожно, прогибаясь в тонкой талии, держась одной рукой за вымытый постоянно набегающей волной боковой корешок березы, вошла по пояс в воду крохотной бухточки. Окунулась, не спеша (обычно мы с визгом выскакивали из ледяной воды) вышла на берег и сказала:
- Теперь и умереть не страшно.
С тех пор мы часто приходили в Асину бухточку, подолгу сидели, разговаривали. Дети возились в песке, а на нас через некоторое время нападал молчун и непонятное желание остаться здесь навсегда.
В другом месте, на Терекли была купальня Свиное рыло. Глубокая ямина под скалой, ну точно, будто дикий кабан поднял голову и стоит. Здесь можно было даже поплавать в голубой воде, погреться потом на раскаленном песке, нанесенном в разлив меж частых кустов краснотала.
Было место, называемое Медвежий угол, на полпути между Большой поляной и Березовой рощей. Мы ходили туда за крупной и необычайно сладкой ежевикой. Густые заросли ее расползались плетьми по рыхлой глиняной осыпи.
Однажды собираю ягоды и медленно поднимаюсь по сухой мягкой глине, по чьим-то, совсем недавно оставленным следам. Еще подумала, хорошо, кто-то прошел впереди меня, подниматься теперь легко, как по ступенькам. Ежевика висит гроздьями, ведерко мое наполняется, по сторонам не гляжу, некогда. И тут – раз! – взгляд упирается в солидную кучу свежего помета. Чуть-чуть я в нее не вляпалась. Мама родная, я шла по медвежьему следу! Замерла, сердце оборвалось. Тишина. Чуть слышно, как внизу переговариваются с детьми Ася и Вера Скворцова… До сих пор не помню, как оказалась возле них. Но, что обязательно стоит отметить, ягоды не рассыпала.
Сколько-то прошло времени, вернулся с рыбалки Вадим Борода. Идет довольный, прячет ухмылку. На кукане болтается с десяток солидных маринок. Положил небрежно на стол, буркнул:
- Почистить!
И полез в палатку отдыхать.
Смиренные, с виноватым видом, отправились на бережок Кирилл и Саша потрошить маринку.
В горных условиях мелкую чешую с этой рыбы снимать не надо. Иначе в казане, в горячем масле она расползется. Следует лишь вспороть брюшко, убрать внутренности и тщательно, не ленясь, очистить полость от черной пленки. Она у маринки ядовитая. Плохо почищенной рыбой можно отравиться.
Мир и тишина воцарились в лагере. Двое на берегу чистили рыбу, остальные с улыбками переглядывались и кивали в сторону палатки Скворцовых. Вслух обсуждать ситуацию не рисковали. Вдруг он еще не остыл, как следует.
И вот тут произошло знаменательное событие! На краю откоса появился Никита. Растрепанный, мокрый, весь в песке, глаза безумные. Обеими руками прижимает к груди два «полена», двух чудовищных рыб. Держит он их за головы, просунув пальцы под жабры, а хвосты свисают ниже колен.
Он ссыпался с горки, волоча за собой тучку мелких камней и пыли, запыхавшийся приблизился к столу, вывалил на него добычу и, гордый, счастливый, перевел дыхание.
Его тормошили, расспрашивали, но по началу он не мог выговорить ни слова.
- Где твоя удочка? – спросил папа.
- Нет удочки, уплыла.
Я стала стаскивать с него мокрую куртку, заставила скинуть трико.
- Господи, да как же ты перемазался!
- Ой, мам, не до того было, – он стал рассказывать. – Дошел до ямы (была, недалеко от поляны, глубокая промоина за скалой), закинул удочку. Клюнуло сразу. Я тянуть, а оно не вытягивается. Думал, зацепил. Тяну, удочка гнется, а леска как-то в сторону, в сторону. Нет, думаю, не зацепил – рыба!
Долго мучила рыба Никиту. Наконец, медленно отступая назад, удалось вытащить ее на берег. Увидел – растерялся. Прежде ему удавалось поймать одну-две рыбешки, а тут монстр. Он чуть было его не упустил. Бросил удочку и упал на рыбину животом. Под ним завозилось что-то большое, холодное, скользкое. Так, не вставая на ноги, по-пластунски, он вместе с добычей уполз от воды как можно дальше, и только тогда рискнул подняться.
Он преградил рыбе путь к спасению, навалив возле нее груду камней. Долго стоял и смотрел, как она вздрагивает, шевелит жаберными крышками, распускает и складывает плавники.
У него в голове не было ни одной светлой мысли. Просто стоял и смотрел, и не верил своей удаче.
Потом присел на корточки, отцепил крючок, погладил рыбу и вернулся к воде. Промелькнуло в голове, что надо бы не жадничать, вернуться домой, но только промелькнуло. Он снова забросил удочку.
Солнце ушло за горы. Вода потемнела, стала отливать свинцом. Что там делалось в глубине ямы, кто знает.
И снова удилище напряглось, натянулась леска. Но в этот раз все произошло быстро. Удочка сломалась. Он только-только успел перехватить удилище повыше, как его потянуло вперед и затащило по пояс в воду. Хорошо не на стремнину, но зато на каменистое дно, и куда ты ставишь в этом случае ногу, смотреть некогда.
Он боролся с рыбой, подтягивал леску, она больно резала ладони. Он устал, ему было страшно. Рядом, совсем рядом, гремел на перекате рассерженный Акбулак, горы смотрели неодобрительно, небо хмурилось.
Каким образом огромная маринка оказалась на берегу, Никита рассказать не смог. Не мог вспомнить. Краем глаза успел заметить, как крутануло в водовороте сломанную удочку и унесло прочь.
Минут десять понадобилось ему, чтобы отдышаться. Потом он принял в объятия, одну и другую, своих рыб и побрел в лагерь.
Мы толпились возле стола, дружно обсуждали удачу Никиты, кто-то душил его в крепких мужских объятиях, крича: «Молодец, парень, так-то вот, знай наших!». Ася принесла кружку горячего чая.
На шум вышел из палатки Вадим Борода. Приблизился, увидел чужой улов. Долго смотрел, потом спросил:
- Кому это так потрафило? Кто поймал?
Четырнадцатилетний Никита скосил на него глаз, скромно потупился и сказал:
- Я.
Вадик горестно махнул рукой, повернулся и ушел обратно в палатку. Не было у палатки хорошей двери, ох, он бы ею хлопнул.
Так на счету акбулакского братства появился еще один заядлый рыбак.
ЖИВЫЕ КАМНИ
В тот год, не помню по какой причине, стояли мы не на Большой поляне, а на слиянии Акбулака и Саргардона. Было там под обрывом небольшое пространство, затененное тополями и орешинами, с каменистым, правда, но относительно пологим спуском для машин. Вниз они съезжали запросто, зато наверх их приходилось выталкивать; с риском покалечить руку или ногу подкладывать под колеса большие камни, чтобы забуксовавшему автомобилю не пришлось катиться по инерции прямиком в речку.
Места хватило для трех палаток, а больше никто и не приехал. В палатке у самого берега поселились Вадим Борода с женой Верой и дочкой Таней. Чуть поодаль – мы вчетвером. В глубине полянки, под откосом, в глухой тени, в одноместном брезентовом домике – расположился Григорий Николаевич Астахов.
Что хорошо было на этом месте – оно было совершенно изолировано от остального мира. Только мы, и больше никого. Разве чуть поодаль, еще одну палатку поставить.
В лагере установилась строгая дисциплина: один дежурит, остальные могут идти на все четыре стороны. Стряпали мы нашу нехитрую еду на костре, а заготовка сушняка и дров была всеобщей повинностью.
Всякий раз, как возвращаемся из похода, каждый тянет за собой, чиркая по земле, высохшую разлапистую ветку. Позади, в облаке легкой пыли, трусит коротконогая дворняжка Скворцовых Найда, то и дело останавливается, чихает. Сколько раз мы упрашивали ее идти вперед, ни за что. Если тащим хворост, она обязательно побежит следом. Охраняла она его, что ли.
Однако на тонких прутиках каши не сваришь. Тем более, борща. Поэтому настоящие дрова приходилось добывать непосильным трудом мужчин.
На заготовку выходили сообща, прихватив не только топор и пилу, но и длинную веревку с крепко привязанным к ее концу увесистым камнем. Сейчас поясню, для чего это было нужно.
Шли по дороге, осматривали растущие вдоль нее деревья, если находили на них сухую ветку, останавливались. Чаще всего, это были орешины с хрупкой, легко ломающейся древесиной.
Теперь следовало перекинуть через нее веревку, для чего кто-нибудь самый меткий на глазок прикидывал расстояние, а потом забрасывал привязанный камень. С первой попытки не всегда получалось, иной раз даже приходилось отказываться от хорошей добычи и идти дальше, но если веревку удавалось закинуть, лесорубы гроздью повисали на ней и с криком «эй, ухнем» тянули вниз. С треском, с шорохом задеваемых листьев толстый сук обрушивался, и его оставалось лишь распилить, разрубить на чурочки. Лесники не препятствовали такой заготовке, напротив всячески ее приветствовали, мол, и людям хорошо, и растениям полезно. А еще дрова приносила река, но топляк приходилось долго сушить и, как правило, он плохо горел.
Но я собралась рассказать о происшествии одного дня. Одного из многих дней на Акбулаке, в начале августа, не помню, какого года.
Накануне договорились с Верой. Я оставляю Наташку на ее попечении, Никита идет с Вадимом на рыбалку, а мы с мужем отправляемся в поход вверх по Саргардону. Изредка мы позволяли себе роскошь отдохнуть от детей.
Поднялись рано, лагерь еще спал, взяли приготовленный с вечера рюкзачок с купальными принадлежностями и сухим пайком, и пошли. Миновали палатки, поднялись наверх. Перед нами оказался неширокий, но и не очень узкий лужок, слегка наклоненный в сторону реки.
Обычно к началу августа трава на склонах выгорает, сохнет, выцветает, становятся светло-рыжей, а этот лужок всегда стоит зеленый, пропитан водой, специально сюда подведенной из ручья. Бежит ручей по камешкам вдоль дороги сверху, добегает до луга, растекается в разные стороны, поит траву. По траве ходит серый ослик Хасана, симпатичный, бархатный. Мне почему-то никогда не хотелось называть его на местный лад ишаком. Хотелось подойти, погладить и ласково сказать – ах, ты, ослик!
Он оторвется от еды, глянет на тебя кроткими глазами, с нижней губы свисает длинный сочный стебель. Тряхнет головой, стебель отлетит в сторону. Ослик стоит, задумавшись.
Поднялись на лужок и увидели идущего по траве незнакомого человека. Он приблизился. С удочкой в одной руке, и садком в другой, почти полным золотой в лучах солнца рыбой. Что удивительно, каждая маринка была обложена мягкой травой, что растет у берега, возле воды, и стеблями мяты с нежными сиреневыми цветами на концах. Рыбки были еще влажные, от них пахло рекой. Они смирно лежали среди зелени, лишь изредка зевали ртами, засыпая.
Мы остановились, поздоровались с незнакомцем (в горах положено здороваться), поздравили его с удачной рыбалкой и склонились над садком, залюбовались чудесным уловом. Поговорили о хорошей погоде, и разошлись. Он отправился вниз, в сторону наших палаток, мы - вверх по склону, к домикам лесников.
Обогнули штакетник, вошли во двор через никогда не закрываемую калитку.
Во дворе привычная тень плодовых деревьев, тишина. Справа – вечно запертый на висячий замок, вытянутый в длину барак, гордо именуемый флигелем, с белыми занавесками на окнах. Дом принадлежит геологам. По слухам, внутри, в одной из комнат большая коллекция минералов, в других, гостевых, приличная мебель и всяческие удобства, но мы никогда этого не видели. Дом оживал лишь в случае приезда высокого геологического начальства.
В левой стороне двора – очаг, а за ним, сквозь ветки вишняка и листву конского каштана виднеется чисто выбеленная стена «Белого дома» с подслеповатым окошком. Он состоит всего из одной комнаты размером три метра на три, плотно заставлен необходимыми для жизни в горах вещами. Сегодня Алика, владельца хором, на месте нет, дверь на замке, а у стола под навесом сидит одиноко его напарник, Хасан Терентьевич, пьет чай. Его деревянный домишко просторней «Белого», но он стоит поодаль и заслонен деревьями.
Хасан усадил нас, налил каждому пиалу чая, придвинул тарелку с лежащей на ней лепешкой из темной муки и миску с медом. Мы стали разговаривать и пить чай. Мы никуда не торопились. Да и по правилам хорошего тона полагалось поговорить с лесником, хозяином здешних мест.
Хасану Терентьевичу в ту пору было далеко за шестьдесят. Он был маленький, сухой, как головешка прокален горным солнцем, и редко когда сидел на месте. Хасан Терентьевич передвигался по жизни исключительно бегом. Под горку или в горку, не важно, все равно бегом.
Целыми днями он трудится как муравей. То чинит штакетник, то откуда-то тащит сухую лесину, сгибаясь под ее тяжестью. Скорость его при этом остается все равно неизменной. Вот он уже на пасеке, вот ковыряется в огороде, вот сажает какие-то прутики, и из них вырастают потом большие деревья, вот бежит на рыбалку.
Русское отчество Хасана, чистокровного таджика из Бричмуллы, всегда вызывало любопытство. Но еще в первый год мы узнали его историю.
У него был побратим. Русский инженер. Подружились они на строительстве деревянного моста через Чаткал, тогда же и побратались. И стал Хасан Иралиевич Терентьевичем, а Иван Терентьевич – Иралиевичем. Они обменялись именами отцов. Не по паспорту, конечно, по душе, по сердцу.
Хасан Терентьевич по-русски говорил свободно, без акцента. Молодым парнем его призвали в армию, в пехоту, отправили в Белоруссию. Там он и встретил войну.
После войны вернулся в родную Бричмуллу и стал работать в лесничестве. Сначала простым рабочим, после лесником. Так что биография его была очень проста. В поселке - жена, дети, сколько-то дочек и два сына. Но сам он большую часть года проводил на кордоне, в урочище Майдантал, у реки Саргардон.
Мы напились чаю, съели по кусочку лепешки с медом, узнали местные новости. Из лесников Хасан пока здесь один. Алика мы увидим не скоро, он женит сына. Саидберды с отцом ушли на свой кордон за Березовой рощей. Там у них беда: медведь залез на пасеку и разворотил два улья. Ахмад уволился и уехал домой в Киргизию. А на его место еще не известно, кого возьмут. Хоть мы и знали, что Хасан Терентьевич и Ахмад не ладили, все равно посетовали, жалко, что уехал.
- Да, жалко, - неожиданно вздохнул Хасан, - теперь и поругаться не с кем.
Мы засмеялись, а он остался серьезным и как-то растерянно оглядел пустой двор.
При случае, Хасан Терентьевич любил поговорить, часто приходил к нам на звездные посиделки. Покончив с дневными делами, мы с детьми выбирались на лужок. Устраивались на плоских камнях, смотрели, как одна за другой зажигаются звезды, как в сгустившейся тьме возникает, словно из небытия, Млечный путь. Чудится, будто сияющие скопления далеких миров едва заметно глазу шевелятся, перемигиваются, о чем-то шепчутся между собой.
Утомившись сидеть на твердом камне, ложились на траву и смотрели в бездонное небо. Кто-нибудь замечал и начинал показывать другим проплывающий среди звезд спутник.
Однажды Хасан задал какой-то вопрос об устройстве вселенной, наши девчонки, Наташа и Таня, принялись просвещать его. Говорили, что Земля круглая, что она вращается вокруг Солнца, что Луна – спутник Земли, а звезды от нас далеко, и долететь до них невозможно. Еще, перебивая друг друга, говорили, что Земля наша маленькая и находится на самом краю галактики…
Хасан слушал, слушал, потом сказал:
- Э-э, все не так, - поднялся и ушел.
Вера засмеялась, крикнула ему вслед:
- А как, Хасан Терентьевич?
Он не ответил, только махнул рукой.
Мы поговорили с Хасаном, и отправились в дальний путь, вверх по Саргардону.
Речка не велика, метра два в ширину, не больше. Но ты попробуй ее перейти! Она не течет, нет, она несется как угорелая вниз навстречу с Акбулаком. Она прыгает с обточенных буйной водой камней, взлетает на следующем пороге с разбега вверх и тут же падает обессиленная, рассыпаясь на пенные струи.
Если присмотреться, вода имеет чуть заметный желтый оттенок, но это не мешает ей оставаться неизменно прозрачной и годной для питья в любом месте.
Ущелье здесь широкое. Скорее, не ущелье, а долгий лог меж двух хребтов. Посреди него проложена дорога, ходят по ней грузовики. Одни на покос, другие на высокогорную шахту.
На шахте мне довелось побывать через несколько лет, глубокой осенью, в пору, когда я писала для одной из Ташкентских газет очерк о работниках лавинной станции. Запомнился вечер. После ужина и разговора о лавинах я вышла на воздух и очутилась на краю узкого горного плато. За спиной светились окна маленьких шахтерских домиков и станции, темнели неясные очертания каких-то механизмов, чувствовалась большая высота.
Было морозно, и, как ни странно, тепло в одном свитере и легких брючках. Всходила полная луна, был неподвижен воздух. На противоположном заснеженном склоне темнела столетняя арча, дальше еще одна, а там еще и еще. На северной стороне в угол темного междугорья заглядывала далекая округлая вершина неведомой горы. В десятом часу вечера она все еще видела солнце, сияла отраженным светом, и казалась отсюда нежным лепестком чайной розы.
Быть может, я развожу сантименты, стараюсь красиво писать. Горная страна скорее сурова и молчаливо неприступна. Но, честное слово, иногда невозможно сдержаться. И что я могу поделать, если та вершина, на которой я никогда не была, издали, действительно, была похожа на лепесток розы!
Но я отвлеклась от нашего с Кириллом похода на Саргардон.
Мы уходили по дороге, неуклонно поднимались все выше и выше, а за нашей спиной из-за ближних гор выползали и становились видимыми дальние горы, прежде заслоненные, теперь явившиеся взору. На них уже ничего не росло, только голые скалы вздымались к небу, да виднелись в расселинах, в постоянной тени, небольшие пятна вечного снега. Иногда я поворачивалась и шла спиной, чтобы не терять из виду открывающуюся панораму, а муж сердился и говорил:
- Иди нормально, а то споткнешься и шлепнешься.
Все сильней припекало солнце, все чаще хотелось пить. Мы решили остановиться. Спустились к реке и очутились в чудном тенистом месте, отгороженном от остального мира высокими, с влажной листвой тополями.
Расположились, расстелили старенькое покрывало, окунули в воду, для охлаждения, бутылку с сухим вином, достали хлеб, помидоры, крутые яйца и отварное мясо. А для начала мне захотелось окунуться.
Разделась, вошла в неглубокую ямку меж двух, камней. Но с купанием ничего не получилось. Воды было чуть выше колен. Я постояла, постояла и вылезла на берег.
- Подожди, - сказал муж, - давай поедим, я тебе построю шикарную запруду, накупаешься.
И мы, изрядно проголодавшись, набросились на бутерброды, достали из речки сухое вино и немедленно стали отбиваться от блестящих черных муравьев, набежавших на запах мяса.
Прилетала зеленая стрекоза, становилась в воздухе над нашим биваком. Быстро-быстро трепетала прозрачными крыльями, смотрела выпученными глазами, потом улетала боком и снова возвращалась. По камням, в направлении против течения, не обращая на нас никакого внимания, прыгала аккуратно подтянутая, серенькая трясогузка.
После обеда, стряхнув с покрывала крошки, я разлеглась в скользящей полутени загорать, а Кирилл полез в воду строить запруду. Смотрела, как он ворочает в воде обкатанные булыги, ставит их одну на одну, забивает отверстия между ними более мелкими камнями и пучками сорванной у берега травы. Давала советы, а он ругался и просил, чтоб я не встревала не в свое дело. Тогда я стала смотреть на скалы противоположного берега. В голову полезли глупые детские мысли.
«Отчего, - думала я, - мне так хорошо в горах? Уютно как-то. В Ташкенте у нас квартира со всеми удобствами, с горячей водой и теплым клозетом, а настоящий дом – здесь. Пусть это даже не дом, а обыкновенная палатка, пусть всего только один месяц в году мы живем дикарями, вдали от городского комфорта. Но мы почему-то всякий раз меняем газовую плиту на костер, спим на земле, на жестком матрасе. Нас не смущает отсутствие унитаза и утренняя пробежка по кустам в поисках отхожего места. И ничего, никто не ворчит, даже это принимаем, как должное.
Каждое лето я считаю дни до отъезда в горы. Мне не нужно никаких путевок в санатории и дома отдыха. Я хочу сюда, в эту глушь, в эти заповедные места, где на свободе бродят прекрасные дикие животные. Мы редко встречаем их. Но мы знаем об их присутствии, мы ходим по их следам.
Может быть, играет во мне капля горской черкесской крови? Прабабка была черкешенка. Как интересно, как романтично… Где-то, когда-то… жила-была горянка, кавказская дева… Я ее правнучка. Ее глазами вижу крутые склоны хоть это не Кавказ, а совсем другая страна. Так же, как она, слышу, как шумит в реке чистая снеговая вода, я вижу, как кланяются под ветром тонкие, беззащитные былинки, как ползает по соцветию желтой кашки бронзовый жук. Где-то рядом кустик чабреца. Отсюда он не виден, но я чувствую его аромат…
Отчего это, - продолжала я думать, - дальние вершины всегда кажутся синими, хотя на самом деле они совсем даже не синие? Присмотрелась, увидела, что и вблизи затененные места на горе отдают синевой. Оказалось, что арча, растущая прямо напротив меня, на скале, тоже синяя. Раскинутые шатром, ее мохнатые лапы шевелятся под порывами легкого, постоянного для ущелий сквозняка. И как только она держится на скрученных, перекореженных корнях, протянутых в разные стороны! А возле них, по-видимому, с большой выгодой для себя, расположились кустики костяники с алыми каплями кисленьких, вяжущих ягод. Эти горящие на солнце алые капельки не нарушали мой синий мир, стало казаться, будто это никакие не ягоды, а просто кто-то лазал среди скал однажды и рассыпал по склону круглые коралловые бусы.
Потом что-то произошло в природе. Сквозь шум воды стали слышаться голоса, стройное невнятное пение. Я стала пытаться разобрать слова, но слов не было. Потом смирно лежавшая на берегу синяя глыба… (упала, наверное, сверху тысячу лет назад, - лениво думалось мне)… обернулась слоном. Он медленно ожил, развернулся, поднялся на ноги, взмахнул широкими лопастями-ушами, задрал к небу хобот. Постоял так некоторое время, опустил его и стал пить из реки. «Возьмет и выпьет всю воду. Где я тогда буду купаться?» – подумала я».
- Мама, да ты никак уснула, - послышался голос мужа.
Я открыла глаза. Он сидел возле меня и смеялся. Босые ноги его были в песке, на плечах блестели капли воды.
- Посмотри, какую я тебе построил плотину!
Я поднялась и шагнула к воде. О, это было прекрасное ирригационное сооружение! Аккуратная стенка из тщательно подобранных камней преграждала прямой путь воде, заставляла потихоньку изливаться в сторону. В яме поднялся уровень. Сделав еще два осторожных шага уже в реке, я погрузилась по пояс. Возле ног, откуда взялись, закружились и стали пощипывать кожу крохотные рыбки османчики. Я так ясно их видела, как они ходят в глубине, изгибая спинки.
Собралась с духом, окунулась с головой три раза, и пулей вылетела из воды.
Так проходил этот день. С купанием, с разговорами. О чем мы говорили? Не помню. Тогда мы были молодые, и «чушь прекрасную несли». Солнце медленно совершало свой путь, пока не настало ему время коснуться ближней вершины.
Мы оделись, собрали вещи, и вышли на дорогу.
Вниз шагалось легко. По мере того, как мы спускались, дальние горы медленно погружались в землю, исчезали за более низкими горами. А те напротив, вырастали и вновь становились самыми высокими и самыми неприступными, с отвесными лиловыми скалами.
Наше необыкновенное приключение началось позже, на дороге между кордоном и лужком. Кирилл наступил на камень, погруженный по макушку в землю.
Лежал себе этот камень испокон веков, кругло обточенный водой в доисторические времена, никому не мешал. Вдруг он как-то странно вывернулся у него под ногой, выскочил из земли и слабо тукнул. Муж оступился, с трудом удержал равновесие и удивленно огляделся. Не прерывая разговора, мы пошли дальше по дороге через лужок, пересекли его и уже в легких сумерках стали спускаться к лагерю. Вот с этого момента и пошло, поехало. На какой окатыш он не наступит, тот и качнется или вовсе перевернется. Я сказала:
- Слушай, Кирилл, с чего это ты все камни на дороге сшибаешь?
- Валяются под ногами, вот и сшибаю.
Но я заподозрила что-то неладное. Вернее сказать, в голове промелькнула тень неясного подозрения и пропала.
Пришли в лагерь. Там суматоха, готовится ужин. Девчонки нанизывают на шашлычные палочки толстые куски рыбы и всякие овощи, помидоры, болгарский перец, Вера и какая-то незнакомая женщина следят, чтобы рыба не пригорала.
Нас познакомили, женщина назвалась Аней, а я, глядя на приготовляемый рыбий шашлык, стала рассказывать, как рано утром мы с Кириллом повстречали рыбака с садком, и как красиво смотрелись в том садке пойманные маринки, переложенные травой и озаренные только что поднявшимся солнцем. Вера с Аней переглянулись и засмеялись.
- А теперь эта рыба жарится, и пойдет на ужин.
Аня оказалась женой того самого рыбака. Утром, после встречи с нами, он пришел в наш лагерь, думал просто порыбачить, но ему понравилось место, и он попросил разрешения поставить здесь палатку. С Вадимом и Гришей они сразу нашли общий язык, разрешение было дано, новая палатка установлена под старыми тополями в некотором удалении от берега. Главное, Аня и Володя привезли с собой сына Максима, ровесника нашему Никите. Мальчишки сразу подружились, и теперь сидели на берегу, о чем-то говорили, и временами громко хохотали. Мы с Кириллом очень обрадовались, а то наш сын все с девочками да с девочками, а они на четыре, на три года моложе него, ему с ними не интересно.
На наши голоса из палатки вылез Володя, мы познакомились уже по-настоящему. Вадим вдруг начал выяснять подробности одного давнего происшествия.
- Постой, постой, это не ты ли в прошлом году таскал у нас под носом на Большой поляне маринку за маринкой? Вспомни, кругом стояло несколько палаток. Было утро. Мы сидели на бревне, грелись. Ты подошел, спросил, можно ли здесь закинуть. Мы тебе говорим, мол, закинь, но тут рыба не ловится. А ты поймал. Семь штук. Как сейчас помню. Я потом пробовал. Ничего подобного. А ты – семь штук вытащил! Это ты был?
Аня засмеялась и сказала, что ее муж, где только не ловил рыбу. А Володя подумал и ответил, что такое вполне могло быть, но он этого случая не помнит.
Тут поспел шашлык из маринок, все кинулись собирать ужин. Но прежде, чем сесть за наш импровизированный стол, мы с Кириллом отправились к воде, умыться с дороги.
Чтобы оказаться на берегу, стоило сделать несколько шагов по узкой тропинке к наклонно растущему молодому деревцу, спуститься по созданной самой природой лесенке – трем камням, прочно сидящим в сухой земле, затем прыгнуть на большой Белый камень.
Белый камень представлял собой широкую, плоскую булыгу и служил нам для умывания. А еще наши девчонки любили принимать на нем солнечные ванны. Чисто-чисто вымытый, ослепительно белый под солнцем, он в силу своей природы не очень сильно накалялся в самую жаркую пору дня. Они ложились животами на камень и обсыхали после купания.
Я благополучно спустилась, вошла по колена в реку. Стояла в воде и смотрела, как идет ко мне муж с белым полотенцем, перекинутым через плечо. Вот он прошел по тропке, наступил на первый уступ нашей лесенки.
Вмиг верхний камень, как говорится, с мясом, вывернуло из ложа! Он покатился вниз, а Кирилла мотнуло в сторону. Не схватись он за ствол, грохнулся бы со всего маху на гальку.
Он удержался, но его по инерции вынесло на Белый камень. И тут… если бы собственными глазами не видела, я бы не поверила. Белый камень, испытавший сотни наших прыжков, совершенно безопасный, мирный, вдруг сильно качнулся, показал испачканную полоску грани между внешней и подземной частью и глухо тукнул – тук!
Мы изумленно уставились друг на друга.
- Как хочешь, Кирилл, - сказала я, - это уже что-то аномальное.
- Глупости, - отозвался он.
Он нагнулся и зачерпнул ладонями воду.
- Сойди с камня, - закричала я, - пожалуйста, я очень тебя прошу, сойди!
Кирилл засмеялся, но с камня сошел, и стал умываться в другом месте. Я взобралась на Белый камень и попыталась его раскачать. Никакого впечатления. Я несколько раз подпрыгнула, сначала на одном конце, потом на другом. Безрезультатно. Камень стоял с таким видом, будто еще сто лет простоит, и никакая сила его с места не сдвинет.
Но я же собственными глазами видела, как он качнулся! Я слышала предательский, тихий стук! Мистика какая-то.
Нас уже звали к столу, мы пришли, сели на измочаленное порубками полено, получили миску ароматной, с лопнувшей в некоторых местах поджаристой шкуркой, маринки.
Я разбирала куски рыбы, вынимала из них мелкие косточки, очищенные клала на тарелки детям и рассказывала историю с качающимися камнями. Вадим, недоверчиво хмыкнул:
- У тебя, - сказал он, откусывая хлеб, - слишком богатое воображение.
- Да, честное слово, я собственными глазами…
Но мне не поверили, разговор переключился на что-то другое, а муж сидел, жевал и помалкивал.
В какой-то момент прекрасного ужина, Вера случайно обернулась и сказала:
- О, смотрите, Хасан Терентич бежит.
Тут и остальные увидели, как Хасан ловко прыгает с камня на камень на другой стороне реки, и даже не касается серой, угрюмой в сумерках скалы. В этом месте она отвесно спускалась почти к самой воде, оставляя узкую полоску нагроможденных один на другой гранитных обломков.
- Старый черт, - сказал Вадим, - вот, под кем ничего никогда не качается.
- Он для этого слишком легкий, - отозвался Кирилл.
- Как будто ты тяжеловес, - хмыкнул Гриша Астахов.
Я обрадовалась.
- Гриша, мне ты веришь!
Он пожал плечами.
- В горах случаются странные вещи.
Хасан Терентьевич переправился через Акбулак ниже лагеря, и вскоре подошел к нам. Мы начали уговаривать его сесть поужинать, но он отказался. Ему надо было идти домой, чистить пойманную рыбу. Я задержала его и рассказала историю с ожившими камнями. К великому удивлению всей честной компании, к моему рассказу он отнесся серьезно.
- Это бывает, - сказал он и внимательно посмотрел на Кирилла. - Никуда больше не ходи, спать ложись головой к востоку. Завтра все пройдет.
- Но почему это, Хасан Терентич?
Он, уходя, обернулся:
- Что-то потревожил…
Я ахнула.
- Кирилл, да ты ж целый день запруду строил, булыги ворочал!
Но существовала ли связь между строительством запруды и внезапно ожившими камнями, мы так никогда и не узнали.
ХОЗЯИН «БЕЛОГО ДОМА»
Все Алик да Алик, никакой он не Алик. Звали его Алимджан. Но для нас для всех он был Алик.
В отличие от Хасана Терентьевича, это был крупный мужчина. Со скульптурным, грубовато вылепленным лицом. Буйная шевелюра и такая, знаете, медвежья походочка вразвалочку дополняли его колоритный облик. Алик никого не боялся, кроме собственной жены. Когда «главный инспектор» его безалаберной жизни, широкая, под стать супругу, половина появлялась на кордоне, Алик вел себя тише воды, ниже травы.
Она устраивала генеральную уборку, завешивала двор выстиранным бельем и ватными одеялами, ругалась за потерянную вилку или половник, ворчала и грозила навсегда поселиться в «Белом доме».
Для Алика это означало бы конец света. Но, наскучив жизнью вне цивилизации, жена рано или поздно уезжала на попутной машине домой, в Бричмуллу. Муж доставал тщательно спрятанную бутылку водки или самогона, выставлял на стол остатки плова, звал кого-нибудь разделить трапезу и начинал на радостях «гулять на свободе». Гуляние могло продлиться пару дней, и заканчивалось всегда одинаково. Алик приходил, в лагерь, просил таблетку анальгина, каялся и клялся «завязать» на всю оставшуюся жизнь.
Нам становилось жаль его. Он был умным собеседником, был начитан, русским языком владел, как родным таджикским, но выше инспектора в лесхозе не поднялся.
Птицы небесные не сеют, не жнут… это как раз про него. Он не склонен был к накопительству, и в других не любил. Бывало, сидит у стола под навесом, увидит Хасана, начинает бурчать под нос:
- О, побежал, побежал. Куда побежал, сам не знает. Да сядь ты, посиди хоть минуту, угомонись! Интересно, куда это он? Опять за дровами! Полный сарай, повернуться негде, ему мало.
Он уверял, будто Хасан, необыкновенной хитрости старичок, знает о здешних горах все. Все тропы в самых недоступных местах, где что полезное растет, где какая водится живность, даже где что покоится, спрятанное подальше от людских глаз, в недрах.
Над Майданталом, на высоте двух с половиной километров, есть таинственное и легендарное место – плато Полатхан. Издалека оно кажется плоским, как ладонь. Оно как бы притулилось к склонам величественных отрогов горы Мынжилки.
Издалека сдается, что нет там ни деревца, ни кустика. Там нет тени, а трава уже в начале лета выжжена горным солнцем. Но, говорят, есть ручей, хоть он и не в состоянии оросить всю местность. Вода вытекает из родника, и уходит обратно в землю тут же, на плато. Еще говорят, будто среди скал, можно отыскать ход в карстовые пещеры.
Но не это главное, о загадочном плато ходят всякие легенды. Будто давным-давно, во времена до исторического материализма, был такой местный царек, а, может, даже не царек, а претендующий на это звание удалой человек по имени Полатхан. Кое-кому крепко не нравилась эта персона. Претензии самозванца было решено укоротить. На него, на его людей напали, началась небольшая война, но силы были неравные, и Полатхан стал отступать. Все дальше, дальше в горы.
Вместе с верными воинами, женами и домашним скарбом, по единственной, ведущей на плато тропе, ему удалось подняться на неприступную высокогорную равнину. Здесь он оказался в полной безопасности.
Полатхан позаботился, чтобы тропу хорошо охраняли. Расположились по-хозяйски. На плато разбили шатры, стали жить и ждать, когда противнику надоест, и он снимет осаду.
Была ли снята осада, выбрался ли на равнину Полатхан – неизвестно. И, опять таки, не это важно. Важно, что после его пребывания на плато, остался зарытый в землю клад! И будто бы многие искатели приключений пытались его найти. Но не нашли.
Так вот, Алик не сомневался, будто Хасану достоверно известно, где зарыт этот клад.
Мы сомневались. Ну, в самом деле, если это так, что мешает Хасану подняться на Полатхан, отрыть сокровище, сдать его государству, получить крупные наградные, жить потом в свое удовольствие, и не сидеть на кордоне в деревянной хибаре, перебиваясь с черствой лепешки на постную шурпу. Но Алика было трудно переубедить. Хитро прищурив глаз, и помахивая указательным пальцем, он тянул:
- Зна-ает. Все знает.
Много позже мы догадались, что он нас разыгрывал. Милое дело для горца разыграть равнинного дурачка. Мы ж там у них, в горах, послушные-послушные, наивные-наивные. Положим, не все, но многие.
Вот жил на кордоне в год «живых камней» такой Антоша. Он был гостем Хасана Терентьевича. Откуда он взялся, и куда потом подевался – не знаю. Был он худой, сутулый, с длинной шеей. Над шеей возвышалась стриженая ежиком, лопоухая головка. Хотелось, как в фильме про Белоснежку, подойти, взять его за розовые ушки и поцеловать в лобик. Такой он был молоденький и невинный, и совершенно неприспособленный к жизни в горах. То он ошпарится, снимая с очага закипевший чайник. То возьмется резать лук и порежется острым ножом. То полезет за вишней, и его искусают осы…
Как-то раз, у себя в лагере, мы приготовили плов из последнего мяса. Хотелось бы растянуть его запасы подольше, но температура в «холодильнике» не позволяла. Холодильником служила река. Все, что могло быстро испортиться, мы складывали в молочники, крепко привязывали крышки, ставили в воду и по горлышко заваливали камнями. Такие предосторожности были необходимы. И сама река могла унести наши припасы, и по ночам с ревизией приходила милая зверюшка норка. Очень она была не прочь полакомиться свежим мясцом или колбаской.
Норок впоследствии развелось на Акбулаке видимо-невидимо. Вернее, не «развелось», а их развели. В надежде на прибыль в государственном масштабе. Думали, как Шариков – «на польты пойдут». Но для промысла этот вид норки оказался негодным. И охотнику она ни к чему, вся пропахшая рыбой. Вот и принялось расплодившееся норочье племя таскать из реки маринку одну за другой. К началу девяностых годов они ее почти всю съели.
Но я отвлеклась. Приготовили мы, стало быть, плов. Наполнили большую миску и понесли, я и Вера, на кордон, угощать лесников. Так было принято. Если они затевали плов, они приглашали нас. К слову сказать, ни Алик, ни Хасан, никогда не брали с нас денег за постой. Подарки мы им привозили. Хасану Терентьевичу крючки и пару пачек хорошего чая; Алику, я вынуждена это признать, водку. А еще мы платили копеечный взнос за пребывание в приграничной с Чаткальским заповедником зоне. Но это официально. Приезжали инспекторы, брали плату, выдавали квитанции.
Да, так зашли во двор. Во дворе Алик разжигает огонь в очаге. Ломает хворост; что покрупней, рубит. За ним ходит Антоша и канючит:
- Дядя Алик, ну, скажите по правде, я же серьезно спрашиваю.
- Что тебе сказать?
- Как называются эти горы?
- Я тебе сто раз говорил, это – Чаткальский хребет.
Алик оторвался от рубки дров, тюкнул уголком топора по плахе, чтобы воткнулся в дерево, а не валялся, где попало. Вскоре в очаге загорелось. Столб белого дыма, наклонившись, пошел прямо на Антошу. Антоша стал отмахиваться, плеваться и тереть глаза. Стоило ему убежать в сторону, дым прекратился, красные языки пламени выбросились сквозь неплотно прикрытую конфорку.
Алик поставил чайник, подошел к столу, уселся. Антоша с покрасневшими глазами пристроился возле него.
- Так как, дядя Алик?
Алик развернулся к нему с усталым видом.
- Что ты ко мне пристал! Ты что, в школе не учился? Тянь-Шань называются эти горы, понимаешь ты, Тянь-Шань!
Считалось, что Антоша, наконец, отстанет, тем более, плов остывал, надо было идти звать Хасана. Но нет. Антоша обиженно вытянул губы, откинулся на скамейке.
- Ну-у, шутите…
Алик растерялся.
- Я не шучу…
- Не может быть, чтобы Тянь-Шань.
Алик рассердился.
- Да тебе русским языком… Смотри, вон, даже на горе написано, на скале – «Тянь-Шань»!
Антоша немедленно обратил взор на указанную скалу, стал искать глазами надпись. Мы переглянулись. Я закусила губу, Вера смотрела на Антошу со страдальческой улыбкой. Алик оставался невозмутимым.
- Ты не туда смотришь, бери левее.
Наконец, до бедняжки дошло, что его разыгрывают. Обиделся, надулся. Мы послали его звать Хасана, похихикали с Аликом и отправились в лагерь.
Антоша догнал нас на лугу. Подбежал, перевел дыхание и взмолился:
- Вера Алексеевна, скажите правду. Это, действительно, Тянь-Шань?
Вера даже руками всплеснула.
- Антон, дорогой, в вашем возрасте уже пора бы знать географию. Конечно, это Тянь-Шань.
- Да-да, наверно, - растерянно сказал он. – Наверно, вы правы. Но это так странно. Подумать только, я – на Тянь-Шане…
Растроганный, размякший, он обвел глазами заголубевшие в сумерках тянь-шаньские горные хребты и глубоко вдохнул в грудь прохладный, настоянный на шалфее и мяте, ядреный тянь-шаньский воздух.
Когда Антоша уехал, мы случайно узнали у Хасана Терентьевича фамилию чудака. Мы хохотали до изнеможения. Фамилия его оказалась… Семенов! С тех пор в память о великом путешественнике мы Антошу иначе, как Семеновым-Тяньшаньским не называли.
Мы не были на Акбулаке несколько лет. Так складывалась жизнь, нелегкая и тревожная. Сначала перестройка, потом распад Союза. Кирилл Владимирович в то время занимал уже достаточно высокую должность, но на жизнь все равно не хватало. Стоило вылезти из одной долговой ямы, как мы тут же благополучно попадали в другую.
У нас была дача. Положим, «дача» – это слишком сильно сказано. Просто шесть соток земли, полученные от производства. Участки под дачи дали господам инженерам в начале семидесятых годов.
Наши друзья и коллеги мужа по институту тут же кинулись строить дома. Со всех соседних участков неслись всевозможные строительные звуки. На протяжении первых лет постоянно стучали молотки, раздавался грохот сбрасываемых на землю досок, где-то ссыпали с самосвалов песок и гравий.
У нас было тихо. Шелестели листвой молоденькие яблони и груши, наливался соком и сладостью виноград. Под фундамент будущего домика с помощью друзей мы выкопали глубокую яму. По «генеральному плану» Кирилла и Никиты, в недалеком будущем она должна была стать подвалом, чтобы хранить там запасы продовольствия и бутыли с домашним вином.
Временно, исключительно на первое время, пока не начнем строить дом, из горбыля и купленных по случаю досок, возвели над ямой навес, накрыли его шифером.
Хорошо помню, мы занимались этой каторжной работой в пятидесятиградусную жару. Надев брезентовые рукавицы, я подавала мужу накалившиеся на солнце листы шифера, а он, обгоревший и изнемогший, укладывал их на стропила и прибивал гвоздями. Потом мы сидели в образовавшейся тени, пили зеленый чай из термоса и молчали. Язык не ворочался от усталости.
Дом мы так и не построили по очень простой причине – у нас никогда не было начального капитала. Но в тяжелые времена снимали с участка неплохой урожай. У нас было все – фрукты, овощи, виноград. За всем этим надо было следить, выхаживать каждый стебелек, караулить, чтобы деревья не ела щитовка, чтобы на виноград не напали свойственные этой культуре болезни и прочее, и прочее…
Тяжелые прошли, наступили новые времена. Тоже не простые, хоть дети и выросли. Никита отслужил три года на флоте в Североморске, поступил на биологический факультет; на третьем курсе бросил, женился, зажил собственным домом, а вскоре уехал в Москву, занялся мелким бизнесом.
Наталья пошла по моим стопам, поступила на филфак. Это не помешало и ей выйти замуж. В девяносто четвертом у нее родился сын, а мы с Кириллом Владимировичем стали бабушкой и дедушкой.
Тогда на большом семейном совете было решено продать участок (надоело батрачить) и вернуться в горы. Дети выросли на Акбулаке, пусть теперь растет внук.
Так и сделали. «Дача» была продана, залежавшийся горный инвентарь собран в кучу, мы засунули вещи в багажник недавно приобретенного старого «Москвича» («Чебурашка» уже не существовал) и покатили вдаль по старой, до боли знакомой дороге. Ехали вчетвером: я, Кирилл, Наташа и полуторагодовалый, новенький с иголочки человечек Сережа.
Доехали без приключений до кордона, и сразу попали в медвежьи объятия Алика.
Удивительно, здесь все было без изменений. Алик и Хасан Терентьевич нисколько не постарели. Только деревья во дворе выросли и совершенно затенили его, только слегка облупился «Белый дом» да обветшал никому теперь не нужный и бесхозный флигель геологов. Не висели на окнах занавески, настежь была распахнута дверь, обрушились ступеньки крыльца.
Алик предложил нам разместиться в одной из комнат флигеля.
- Куда вы с таким маленьким ребенком полезете в палатку. Нет, вы ее поставьте, Кирилл пусть в ней и ночует, а вы здесь. Правильно я говорю, спиногрыз?
Он взял Сергея на колени, сунул ему в руку кусок лепешки. «Спиногрыз» внимательно разглядел нового дядю, подарил застенчивую улыбку и занялся угощением. Наташа казалась расстроенной.
- А как же Большая поляна?
- А на Большой поляне теперь никого нет.
Мы приняли предложение Алика. Обустроили маленькую комнату во флигеле. Обмели паутину, вымыли пол, завесили стены «коврами», старенькими покрывалами; на железные кровати с пружинами положили матрасы, Кирилл Владимирович починил колченогий стол, прибил новые доски на ступеньках у входа. В таких царских условиях можно было жить сколько угодно времени. А еще мы позволили себе невиданную роскошь, привезли сборный душ.
Когда-то на Большой поляне Саша Безбородько построил тесную кабинку для омовения. Это было уродливое, шаткое сооружение, с двадцатилитровым баком наверху, но смыть с себя походную пыль теплой, нагретой солнцем водой, было всегда приятно. Я припомнила Кириллу Сашин душ, он подумал и сказал:
- Сделаем. Только немного лучше.
Для возведения душевой кабинки, в соответствии с заранее продуманным чертежом, было приобретено сколько-то погонных метров водопроводных труб. Специальной пилой по металлу, сверяясь с расчетом, муж отпилил четыре длинные стойки и восемь коротких для крепления внизу и вверху. Теперь следовало по каждому концу коротких и длинных отрезков (всего их было двенадцать, но концов-то двадцать четыре!) пройтись леркой, чтобы получить необходимое число шагов аккуратной, блестящей свежим железом резьбы.
Легко сказать – «пройтись»! Если учесть, что это были те трубы, как говорят специалисты: толстостенные, полудюймовые, то работа с леркой обернулась каторгой. Но чего не сделаешь ради любимого внука, дочери и жены!
Я помогала! Даже пыталась резать. Наваливалась животом на длинные рычаги лерки, повисала на них, проворачивала, снова наваливалась. Пока Кирилл не прогонял, не говорил: «Хватит с тебя».
Сборка труб на тройниках и гайках прошла, как говорится, без сучка, без задоринки, хотя и здесь пришлось повозиться.
Кирилл собрал душ на пробу (надо же было увидеть, что получилось) посреди большой комнаты, отступил в сторону, глянул и покатился со смеху.
Перед нами высилось легкое, ажурное сооружение площадью в один квадратный метр! Для летней бани многовато. Укорачивать скрепления? Снова резать? Нет, на это никаких сил и времени больше не было. Кирилл разобрал душ, купил несколько метров полиэтиленовой пленки для защиты от ветра и посторонних глаз, и мы поехали в горы, имея на багажнике связку новеньких, отливающих синью труб.
Душ был собран заново и поставлен за флигелем, на припеке, на самом прогреваемом солнцем месте. По периметру, поверх стоек, его закрыли пленкой, а на досках, уложенных на верхних креплениях, разместилась старая выварка с вделанной в ее дно лейкой и маленьким краном. Затем позвали Алика принимать объект.
Алик, не спеша, обошел душ кругом, посмотрел, покачал на прочность. Хоть бы оно шелохнулось!
- Молодцы! Ничего не скажешь. Как это ты, Кирилл, умудрился придумать такую штуку! Все по уму. Собрал – разобрал, и места в дороге почти не занимает. Меня пустите купаться?
- Какой разговор! – вскричали мы, и Алик потопал восвояси.
Едва дождавшись, чтобы нагрелась на солнце вода, Наташка побежала делать пробу.
Место было безлюдное, но мы совершенно выпустили из виду одну маленькую деталь – проходившую снаружи метра на два ниже покосившегося штакетника дорогу. Нет, в случае, если бы по дороге ехала легковая машина, то сидящие в ней пассажиры ничего бы не увидели. Но на беду, именно в тот момент, когда Наташа только успела, как следует, намылиться, мимо кордона пошел грузовик с битком набитым людьми кузовом. Лесхозовские рабочие ехали в сторону Березовой рощи на покос! А пленка оказалась почти прозрачная…
Нет, все, конечно, знали, что она прозрачная, но как-то об этом не подумали. Головы сидящих в кузове так и остались повернутыми в сторону злополучного душа даже тогда, когда машина проехала далеко вперед, пересекла брод и начала скрываться за поворотом. А Наташка так и осталась стоять с мочалкой в руке, замершая, как мраморная Галатея.
Ошибку исправили, поверх пленки повесили старенькое покрывало, и на другой день отправились ставить палатку. Хорошее место можно было обнаружить под откосом с восточной стороны кордона. Сам кордон располагался выше, на ровной площадке, и главная дорога подходила прямо к калитке с западной стороны. Сделав возле нее круг, чтоб машинам было удобно разворачиваться, дорога разветвлялась, частью шла вверх по Саргардону, частью вниз к броду, а по пути от нее отходила тропа, тропа вела вокруг обрыва с кордоном наверху по неширокому ложку вдоль реки. Он был затенен деревьями, густо порос травой и кустарником, среди зелени белели во множестве большие и малые валуны. После упорных поисков, мы нашли под обрывом более-менее свободное от камней место, и решили обосноваться здесь. Правда, чуть дальше, и полянка была просторней, и тени больше, но Алик предупредил, что на этом месте постоянно располагается лагерем Володя-рыбак, и его занимать не стоит.
Территорию под будущий лагерь следовало расчистить от ежевики, лишних камней, бурелома и прелых листьев.
Каждый год потом, на протяжении четырех лет, мы расчищали и совершенствовали ее, и уже не порывались на Большую поляну. В свободную минуту сходили туда с Наташей, навестили старое место. Это было грустное путешествие в давно прошедшие времена.
Мы бродили по поляне и вспоминали: здесь стояла наша палатка в год, когда шли дожди, потом перешли под орешину, а Вадим с Верой и Таней постоянно селились на мысу и располагали палатку меж двух молоденьких елочек. Под березой стоял Гриша Астахов, там – Петрович с семейством, а там Алиса и Боря с Алешенькой, а там Леня Богатырев с женой и сыном, рядом с ними Саша Безбородько, а там великий труженик Штейн. Он работал переводчиком, был занятой человек, не то, что остальные, бездельники, приезжал с пишущей машинкой, черным догом и взрослым сыном. Много народу бывало, со всеми мы были дружны, но всех я не в состоянии упомянуть в моем повествовании, иначе мне его никогда не удастся закончить.
Походили мы с Наташей по поляне, потом сели на камешек и тихо заплакали о безвозвратном времени. И сама поляна показалась неухоженной. Везде валялись сухие ветки, местами сорван был дерн, и земля покрыта наносами засохшей глины и гравия. Кое-где лежали поваленные деревья. Вернулись на кордон и узнали от Алика о произошедшем два года назад наводнении. Оно-то и натворило бед. Не только на Большой поляне.
Мы стали жить на два дома. Ночевали и укладывали спать Сергея на дневной сон во флигеле, а все остальное время проводили внизу, в лагере, да и на кордоне иногда бывало излишне многолюдно.
Обычный летний день. Солнце стоит в зените. Легкое марево осыпает золотом горы. В ущелье прекратился утренний сквозняк. Кажется, будто даже река присмирела, не так сильно гремит на перекатах.
С Наташей и Сережкой поднимаемся по проложенной на откосе бетонной, в два пролета, лестнице, на кордон. Проходим мимо выстроенных в ряд молоденьких сосен и тополей. Листья на тополях по-детски крупные, чисто вымытые, висят неподвижно на длинных черенках. Один какой-нибудь вдруг внезапно заполощется, и снова повиснет, смутившись за нарушенный дневной покой.
Во дворе толкутся незнакомые люди, видно, туристы. Делятся впечатлениями. Лениво развалившись у стола, уставший после обхода своих владений, Алик снисходительно слушает мужчину лет сорока. Мужчина заходится от восторга, у Алика смеются глаза, он опускает веки.
- Первый раз в жизни такое видел! – кричит мужчина. – Случайно глянул вверх, а там – козел! Здоровенный, рога вот такие! Книзу загнуты. Я на него смотрю, а он стоит…
- Где это? – небрежно спрашивает Алик.
- Там, на Терекли. Ну, буквально в километре от слияния!
- Так это не козел, - роняет Алик.
- А кто? – теряется мужчина, - у него же рога…
- Это статуя, - Алик тянется к чайнику, наливает в пиалу остывший чай, - скульптура такая. Над Чарваком тоже стоит. Видели, как проезжали?
- Ну, видели. Облупленный, без одного рога.
- И этот такой же, только с рогами, - отпивает глоток чая Алик.
Мужчина некоторое время молчит и недоуменно смотрит на него.
- Так он же шевелился! – внезапно нарушает он тишину.
Но как-то неуверенно. Алик, не торопясь, снова отпивает глоток чая.
- А там специальный мужик сидит, он его время от времени поворачивает.
Как говорится в таких случаях - пауза. Алику скучно, он почти засыпает, сидя, только веки пламенеют. Наконец, туристы начинают соображать, что к чему, и разражаются хохотом. Алик, довольный, хмыкает и зовет Сергея.
- Иди ко мне, спиногрыз.
Сережа подходит, прижимается к его колену.
- Как дела? – спрашивает Алик и кладет неуклюжую загорелую пятерню на белокурую кудрявую головку.
Сережа улыбается и молчит.
- Спать пришел? Бай-бай делать?
- Га-га, - соглашается наш умненький мальчик.
На его языке это означает, что он сейчас ляжет спать. Правда, спать ему совершенно не хочется, но, что поделаешь. Алик смеется, да и всем на кордоне страшно нравятся первые неловкие попытки Сережи заговорить по-русски.
Мы уносим ребенка в дом, в прохладу. Туристы как-то незаметно исчезают. Алик уходит к себе, во дворе пусто. Зной томит землю, иссушает ее до звона, выжигает траву. Даже здесь, на высоте в тысячу семьсот метров над уровнем моря, жарко. А что внизу, в долине?
Издалека, с дороги, раздается чей-то голос:
- Ирали, а Ирали?
Ирали – старший сын Хасана Терентьевича, он сейчас живет с ним на кордоне. На высокогорье начался покос.
Откуда-то из-за дома доносится его голос:
- Я здесь!
- Алик у вас?
- Нет, не у нас.
- А где он?
- Пошел га-га.
ЗА ЛУКОВКОЙ
Из всей акбулакской инженерной братии Григорий Николаевич Астахов был единственным кандидатом технических наук. И то сказать, институт был скорее проектным, нежели научно-исследовательским учреждением, за званиями там особенно не гнались. Но Гриша некоторое время преподавал в ташкентском ирригационном, там и защитился.
Потом перешел «к нам», стал начальником отдела. Со временем он переманил Кирилла из соседней лаборатории математического моделирования к себе в заместители. Положение начальника и подчиненного нисколько не мешало им всегда оставаться в добрых дружеских отношениях.
Гриша был умен; не красив, но обаятелен. И еще голос. У него был изумительного тембра, глубокого залегания в грудной клетке бас.
Я прониклась к нему теплым чувством после истории с «живыми камнями». Он единственный, кто поверил в рассказанную мной историю. Не то, чтобы он был как-то мистически настроен, нет, он был ученый, рационалист, но он никогда не забывал о неисчерпаемых возможностях природы и относился к ней с великим почтением.
Правда, скептик Вадим Скворцов утверждал, будто Григорий Николаевич тщательно скрывает свои поэтические наклонности, и именно поэтому относится с сочувствием ко всякого рода лирике, свойственной также присутствующим здесь литераторам; при этом он с ехидной улыбочкой скашивал на меня глаз.
У Гриши не было дачи. Он в ней не нуждался. От родителей ему достался в наследство дом и сад при доме. В саду росло все, что можно вырастить в нашем благодатном климате. У него росла даже березка в конце двора, и елочка у входа на веранду, а еще Григорий Николаевич построил теплицу и выращивал лимоны. Он очень любил хвалиться достижениями, и когда мы приходили к нему и его жене Оле в гости, водил по дорожкам и все показывал.
Но неизменной его любовью оставались тюльпаны. За хорошую луковицу Гриша готов был отдать полжизни. И вот запала ему в голову навязчивая идея – развести у себя в саду горные тюльпаны. Он даже знал их научные названия – тюльпан Кауфмана с ярко-желтыми концами красных в середине лепестков и тюльпан Грейга – ярко-алый с заостренными и слегка свернутыми лепестками. Он так часто описывал эти тюльпаны, что мы потом их, при случае, без ошибки отличали от других, садовых.
На Акбулак он пришел раньше всех. Он проторил дорогу, еще в студенческие годы, ходил пешком от Юсупханы по широкой долине Чаткала - водохранилища тогда не было - ночевал в кишлаках. Ему не было отказа в приюте, никто из жителей гор никогда бы не стал нарушать закона о гостеприимстве, но его принимали не только по традиции, просто Гриша мог обворожить любого.
Тюльпаны тюльпанами, но, я так понимаю, всякий раз это был всего лишь повод пойти в поход. А если повезет, и луковицы будут обнаружены, так это ж просто счастье.
Далекие семидесятые годы. Раннее утро. Нас четверо – Гриша, Кирилл, я и наша маленькая дочка Наташа. Ей всего пять лет, но она хороший путешественник, в пути не скулит, не ноет, только перестает болтать, если утомится. Она увязалась с нами в поход в березовую рощу. Обнимала меня за шею, поднимала голос до писка, говоря, что ей ничего не стоит протопать девять километров
- Вы же сами говорили, что дорога хорошая.
Дорога хороша, ничего не скажешь, ходить по ней пешком куда приятней, чем ехать на машине, и она не заканчивается возле Большой поляны, тянется дальше до кордона Саидберды за Березовой рощей, и только там пропадает, превращается в горную тропу, и по этой тропе можно попасть в Янгиабад. Но нам не нужно в Янгиабад, нам нечего там делать.
Мы ушли из шумного лагеря, мы свободны и счастливы. Дышится легко, утреннее солнце не томит жаром, в ущелье тенисто и немного сыро.
Обзора нет, идем в замкнутом, сумрачном мире, со всех сторон нас окружают деревья и неприступные скалы. Они уходят ввысь, и кто знает, что делается за пределами их вершин.
Справа шумит река, но Акбулак здесь не такой буйный, он еще не добежал до слияния, не вобрал в себя Тереклисай.
Приходим к роднику, и останавливаемся напиться. Родничок невелик, но глубок и прозрачен, ясно видно его мозаичное дно, устланное мелкой галькой. Над гладью воды, висит в только что сплетенной, свежей паутине маленький паучок. Мы стараемся не нарушить его покоя, но он все равно удирает и терпеливо ждет на краю сетки, чтобы мы утолили жажду и убрались из его мирка.
А мирок, и правда, хорош. Все камни возле родника, большие и малые, от основания до макушки поросли свежим и мягким мхом. Наташка гладит мох, потом становится на колени и наклоняется, чтобы коснуться его щекой.
Мочажина от родника до скалы, куда изливается вода, сплошь поросла мохнатым, нежного, светло-зеленого цвета ковром. Это хвощ. Жесткая, насыщенная солями первобытная трава. Если провести по ковру рукой, раздастся странный, ни на что не похожий шорох. Выбравшись из-под хвоща, вода выбегает ручьем на дорогу и стекает потом в Акбулак.
Воздав должное роднику, идем дальше. Мимо Бухты святой Алисы, к странному заповедному месту.
Между двумя скалами, когда-то давно упавшими с высоты в реку, образовалась ловушка, тихая гавань, причал для плывущих по воде обточенных обломков дерева. Но выхода у них нет. Они накапливаются здесь и плавают на поверхности плотным слоем, постукивают один об другой. Мы часто приходим сюда запасаться топливом да искать всякие фигурки, чудно изогнутые корешки или просто материал для резьбы по мягкой арчовой коре. У нас этим некоторые увлекаются.
Но сегодня никто даже не заглядывает вниз, в затон, мы идем дальше.
Дорога вьется вдоль берега, мимо ежевичных зарослей, мимо старых орешин и тополей. Вот еще одна большая купальня, глубокая яма под темной скалой. Здесь можно поплавать, но вода в этом месте особенно холодна, не до плавания. Войдешь по пояс, заставишь себя окунуться, и с визгом вылетаешь на берег, на теплый крупный песок.
Наша маленькая девочка утомилась, не щебечет, не бежит впереди всех вприпрыжку. Находим в тени уютное место и садимся отдыхать.
- Наташа, смотри, - зовет Григорий Николаевич.
Он показывает камень, заросший цветным лишайником.
- Ты только глянь, какие узоры! А какие цвета!
Оба водят пальцами по камню и, перебивая друг друга, находят все новые и новые краски.
- Вот зелененький, - шепчет Наташа, - как кружево. А вот серый…
- А здесь, смотри, лиловый.
- Как сирень? – доверчиво спрашивает Наташа.
- Сирень гораздо темней, особенно персидская.
- А какая это – персидская?
Гриша начинает рассказывать все, что знает о персидской сирени.
Отдохнув, идем дальше. Теперь дочка едет на плечах у папы. С высоты ей больше видно, и она вертит головой во все стороны. Разговоры о персидской сирени приводят Гришу, как он выражается, в «стихийное настроение». Идет и бормочет: «Шаганэ ты моя, Шаганэ, потому что я с севера, что ли…»
Есенина Григорий Николаевич читает только в трезвом состоянии. Стоит ему немного выпить, а выпить он не дурак, переходит на Блока. Казалось бы, следовало бы наоборот. Хотя…
На подступах к Березовой роще правый берег неожиданно широко раздался, горы отошли в сторону, мы огляделись и догадались, что на открытом и ровном месте когда-то затевалось строительство. Чего? Да Бог его знает, чего. Торчали без толку наполовину возведенные стены, среди бурьяна валялись полуистлевшие автомобильные покрышки, битый кирпич, заржавленные железяки. Нагромождения строительного хлама прикрывал с дороги прочно прикрепленный к массивным, старательно вкопанным (не просто вкопанным, а даже зацементированным у основания) уголкам, большой металлический плакат с красными, наполовину размытыми от дождей буквами. Григорий Николаевич первый приблизился к нему и в изумлении замер на месте. Потом растерянно оглянулся и приказал:
- Читайте вслух!
Кирилл фыркнул, а я громко, с выражением, прочла: «Решения съезда КПСС выполним!»
- Ну, и что? – спросил Кирилл.
- Ты ничего не замечаешь? – как-то по-птичьи склонил голову Гриша.
- Нет, - пожал плечами Кирилл, - плакат, как плакат. Ни к селу, ни к городу он здесь, конечно, а так…
- И ты ничего не замечаешь, - строго посмотрел на меня Григорий Николаевич и вдруг заорал, – какого?
- Что – «какого»?
- Решения, какого съезда выполним? Двадцатого, двадцать шестого, или, может, двести сорок пятого?
Тут и до нас дошло. Кирилл захохотал на весь Акбулак, а Наташка смотрела на него и ничего не понимала. Я взяла Астахова под руку:
- Гриша, какая разница, хоть стотысячного.
И мы отправились дальше, оставив позади строительную разруху и политически выдержанный плакат, на котором все же следовало бы написать: «Решения любого съезда КПСС выполним!»
Но вот и роща. Здесь простор, ущелье осталось далеко позади. Куда хватает взгляда – березы, березы, белые стволы, за ними округлые и однообразные вершины не очень высоких гор. Но это лишь кажется, что они не высоки, на самом деле там уже начинаются альпийские луга.
Папа опускает дочь на землю, и она бежит по сочной зеленой траве к цветам, начинает рвать пижму, чудное растение с золотыми монетками соцветий.
А мы идем смотреть местную достопримечательность.
Когда-то, давным-давно, сильный обвал уронил на молодую березку тяжелый, с острыми краями, камень. Трудно пришлось бедному дереву. Но оно не погибло. Годами выползало из-под камня, выкручивалось, раздваивало ствол. Наконец камень оказался в развилке. Береза поднатужилась, и оторвала его от земли. На это усилие у нее ушла масса времени, но она росла все выше, выше, и поднимала камень. Так он и остался, вросший в ствол на высоте человеческого роста.
Мои неугомонные прагматики стали пытаться определить размеры камня, они заходили с одной стороны, с другой, прикидывали и спорили. Сколько же он весил! А береза… ей хоть бы что, держит неимоверную тяжесть, распушила над камнем крону и шелестит листвой.
Потом Гриша сказал:
- Вы тут пока погуляйте, а я поднимусь на склон, поищу луковицы.
Ничего у него не получалось, - тюльпаны по весне отцвели, их листья высохли и, либо рассыпались прахом, либо стали неприметными среди всевозможной поросли.
Мы погуляли под березами, потом устроились на траве в тени и стали ждать Гришу. Вскоре он спустился с горки, сел возле нас. Мы тихо разговаривали и смотрели, как маленькая девочка в белом коротком платьице рвет цветы на солнечной стороне поляны. Наконец, она удовлетворилась и прибежала к нам.
- Вот, - протянула букет, - я нарвала.
- А как они называются, знаешь? – спросил Гриша.
- Конечно, знаю, - смело ответила Наташа.
- А мы сейчас проверим, давай сюда свой букет.
Он разложил на траве цветы и стал спрашивать:
- Этот?
- Душица.
- А этот?
- Пижма.
- Нет, Наташенька, это не пижма. Пижма у тебя – вот, видишь, соцветие, как отдельные монетки, а это просто кашка…
Кирилл откинулся на спину, лег, заложил руки за голову, стал смотреть в небо. Я наклонилась над ним.
- Что ты видишь?
- Тебя.
Я легла возле него.
- А теперь, что видишь?
- Тебя.
- Выходит, я заслонила вселенную?
- Выходит так…
Я глупо и счастливо улыбнулась.
- А вот этот цветок ты точно не знаешь, - нарушил тишину Гришин бас, - это - козлобородник.
- Козлобородник! - рассыпала звонкий смех наша девочка, - разве у него козлиная борода, он же сиреневый, и похож на ромашку, только лепестки длинные!
- Ничего не поделаешь, он так называется. А это что?
- Желтый мак.
- Какой же это мак! С колючками! Это хультемия. Только ты зря ее сорвала, она скоро завянет, до дому не донесешь. И вот эти красные ягодки не надо было трогать. Они хоть и красиво облепили стебель, но ядовитые. Не вздумай их кушать.
- А как они называются?
- Аронник.
Я поднялась на локте.
- Слушай, Гриша, откуда ты все это знаешь?
- Вот спроси – не скажу. Где-то, когда-то вычитал.
Мы ушли из березовой рощи, когда солнце ушло за горы. До вечера было далеко, просто в горах солнце уходит рано. И тогда в мире наступает удивительная тишина. Даже не наступает – воцаряется. Нет, река продолжает шуметь, звенит в травах всякая насекомая мелочь, слышится хруст камешков под нашими ногами, а то с шумом выпорхнет из расселины и полетит по своим делам каменный дрозд. Но все эти звуки есть не что иное, как составляющая величественной тишины. Она нисходит на наши души, и мы перестаем болтать, бормотать стихи, делиться впечатлениями.
Солнца нет, но день будет длиться еще долго. И благодарные за этот день, за сияющие белизной стволы берез на фоне шелковой изумрудной травы; за кремнистую дорогу, ведущую теперь под горку, вниз; за ледяную воду из тихого родника; за горсть сизой, еще не вполне вызревшей ежевики, сорванной на ходу; за долго кружившего на уровне самой высокой горы орла, - мы придем домой, в наш полотняный городок. Лишь поздно вечером, когда небо озарится несметным количеством всегда неожиданно ярких звезд, мы, полюбовавшись ими, наконец, угомонимся и ляжем спать в надежде на следующий день, такой же прекрасный и неповторимый.
Такой день вскоре настал. Неугомонный Григорий Николаевич повел нас, правда, без Наташи, на Тереклисай все за теми же луковицами тюльпанов.
Терекли меньше Акбулака, но тоже не тихая заводь, вброд просто так и его не перейти, а на берега его мы попадали, по перекинутому через Акбулак, в нескольких шагах не доходя до слияния, мостику.
Прямо скажем, «мостик» - это слишком сильно сказано: два бревнышка, поперек четыре хлипкие доски, и хватит с вас, господа туристы. А внизу… лучше не смотреть вниз, а перешагивать через пустоты, строго глядя перед собой или, еще лучше, в спину мужа, держась за полу его рубашки. Так я и поступала, вызывая общие насмешки. Что делать, у меня боязнь высоты.
Меня могут спросить, какого черта, ты, со своей боязнью лезешь в горы? Отвечу – страх высоты странная штука. Я могу спокойно подниматься по откосу в тридцать пять или сорок градусов на вершину горы Абдак, и не могу заставить себя посмотреть вниз с балкона пятого этажа, а уж с мостика на быстро текущую воду… Пусть лучше меня кто-нибудь подстрахует.
В том походе, Гриша сыграл со мной злую шутку. Мы ушли далеко вглубь ущелья. В одном месте следовало перейти на другой берег Тереклисая. Так вела тропа. Через реку было перекинуто толстое бревно, но ближе к концу, оно сильно сужалось. Две трети пути я прошла благополучно, а потом застряла. Встала, зажмурилась и стою. Подо мной несется река, открою глаза, гляну вниз, непременно пошатнусь и поминай, как звали. Но благородный джентльмен Григорий Николаевич окликнул меня с берега и протянул тонкий прутик. Я схватилась за его конец и благополучно перебралась на твердую землю.
- А теперь смотри, - сказал Гриша и сломал прутик.
Это оказалась хрупкая гнилушка.
- Вот и вся цена твоим страхам, - добавил муж.
Но я вернусь к началу путешествия. Мы резво шагали вперед. В те далекие времена вплоть до заброшенной шахты вела прямая дорога. Позже, во время наводнения, от Большого шлема откололась скала, но не упала, а села вдоль материка, и перекрыла путь. Чтобы уйти в ущелье, теперь приходилось огибать скалу по воде, по специально наваленным камням. Неухоженная дорога стала разрушаться, превратилась в тропу, потом и тропа заросла непроходимым камышом и мятой. Я никогда прежде не видела, чтобы стебли мяты выгоняли в рост человека. Но до этого времени было еще далеко. Мы шли себе и шли вдоль горы, спокойно оглядывали противоположный склон. На всякий случай. Вдруг нам повезет, и мы увидим стадо козлов. Горы…
Стоп! Я все время повторяю одни и те же слова: «Скала, гора, река, тополь, арча, откос, вершина, склон». Потом начинаю вдаваться в подробности: «На склоне трепещет под ветром душица, тихо произрастает чабрец и прочая пахучая травка, а кое-где мелькают головки желтого бессмертника (если собирать, заваривать кипятком и пить настой – хорошо помогает от печени)». И так далее, и тому подобное… Я никак не могу остановиться.
А может, и не надо останавливаться? Может, я для того и погрузилась в воспоминания, чтобы увидеть заново все былое, навсегда ушедшие светлые дни. Эх, была - не была, продолжим.
Конечно, все перечисленные выше приметы имеются и на Терекли в полном наборе, только горы (опять!) повыше. Даже намного выше, чем в ущелье Акбулака, они здесь намного «круче и уходят под самые тучи», хотя в тот день никаких туч не было. Величественно сияло солнце, на небе не замечалось ни облачка, оно было синё, просторно, и очень близко; его хрустальной тверди можно было бы коснуться рукой, взобравшись на самую высокую гору. И тогда от этого прикосновения раздался бы тихий, очень ясный и долгий аккорд небесной музыки. Он прокатился бы по горам, и горы отозвались бы эхом.
А? Не так? Так не бывает? Все мы грамотные стали. Кроме Хасана Терентьевича. Да и самая высокая вершина здесь совершенно неприступна – отвесная, монолитная, похожая на бетон стена с острыми зубцами на продолговатой вершине.
Дорога кончилась, превратилась в узкую тропу. Мы обернулись в последний раз на заброшенную штольню; полуразрушенный остов домика, неизвестно для какой надобности построенного здесь; заржавленные и совершенно неуместные в горах останки неведомых механизмов.
Тропа провела нас мимо непроходимых зарослей неправдоподобно высокого камыша и вывела к водопаду «Слезки». О, он был великолепен! По широкой скале, щедро поросшей первозданным, чистейшим, ярко-зеленым мхом, куда ни глянь, струилась, бежала, стекала сияющая на солнце капель. Казалось, воздух дрожит от веселой, слаженной музыки. Я коснулась рукой замшелой поверхности, пушистый мох оказался пропитанным водой, как губка.
Но мне не дали времени на восторги, повели дальше и привели к переправе, где Гриша протянул мне гнилой прутик, чтобы я благополучно ступила на другой берег Тереклисая.
Теперь тропа шла в гору, вела выше, выше, сквозь редкий арчовник, на встречу с глиняной осыпью.
Веселое было место! Перед нами лежала на вогнутом склоне излучина узкой дорожки, шириной буквально в полноги, да еще с легким наклоном к реке. Глянешь вверх – там стена высохшего до звона, безжизненного грунта, глянешь вниз – та же картина. Далеко, на дне обрыва, гремит на порогах Тереклисай, а по откосу так и летят, так и осыпаются мелкие, как горох, камешки.
Мы благополучно миновали чертову ловушку и остановились передохнуть.
- Кстати, - сказал, оглянувшись назад, Гриша, - таких троп и на Акбулаке было полно. Вам Хасан не рассказывал, как его, вот не помню, кто именно из родственников – не то дед, не то дядя, был проводником у Осипова?
- Ты про осиповский мятеж? – удивился мой муж.
Я промолчала.
К стыду своему, в то время я ничего не знала об осиповском мятеже. Но через несколько лет ушла из школы, чтобы целиком посвятить себя творчеству, и для начала погрузилась в публицистику. Сотрудничала в газетах, в журнале «Звезда Востока». Однажды предложили написать очерк о мятеже. Снабдили необходимым материалом, имели место долгие разговоры с редактором отдела. Тема была необычайно интересная, но я отказалась. Не сходились концы с концами в прочитанных мною статьях, темное было дело.
Теперь-то можно назвать вещи своими именами – осиповский мятеж был вызван недовольством советской властью, и имел для этого все основания. Во главе взбунтовавшегося ташкентского гарнизона встал Константин Павлович Осипов, поручик двадцати восьми лет, в недавнем прошлом военный министр в правительстве Туркестана и, по молодости и романтическому увлечению, большевистский комиссар. Однако увлечение вскоре закончилось.
Три дня в январе 1919 года в Ташкенте царил кровавый хаос. Мятеж был подавлен, Осипов успел захватить городскую казну, и ушел с отрядом повстанцев на Чимкент.
Но дорога оказалась закрытой. Повсюду стояли заслоны красноармейцев. Тогда отряд свернул в горы, пошел по Угаму на Чимган.
В кишлаке на Чимгане Осипов пробыл до апреля. Ждал, чтобы в горах сошел снег, лечил вывихнутую ногу. Прихода красноармейцев он не боялся, в те времена в горах они не появлялись, но таяли деньги. Они уходили на фураж, на плату за постой, на жизнь. Получив золотые монеты на руки, бойцы тайком покидали своего командира, пробирались обратно в Ташкент, там попадали в руки большевиков. Таким образом, казна была почти полностью возвращена.
Весной Осипов с остатками отряда пришел в Бричмуллу, и там нанял проводника до Ферганской долины. Впоследствии служил советником у эмира Бухары, и вместе с ним ушел через Памир в Афганистан. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Вот так история совершила круг. Мы ходили и ездили по той самой дороге вдоль Акбулака, по которой в девятнадцатом мятежном году бежал разочаровавшийся в большевизме, виновный в смерти ташкентских комиссаров поручик Осипов с остатками своего отряда, а впереди них ехал всадник, близкая родня нашему Хасану Терентьевичу. Конечно, никакой дороги, Полутуннеля, никаких кордонов и шахт тогда не было. Они ехали по узким тропам, вроде той, что осталась у нас позади, измученные, страшась погони, положившись всецело на молчаливого горца, исполненного равнодушия к политике, революциям, как к той, так и к противной стороне.
Мы отправились дальше, перебрались на открытое место по ступенькам скал, отвесно спадавшим к реке и, наконец, Григорий Николаевич привел нас на небольшое плато, поросшее шалфеем и пижмой. Мы стояли высоко над ущельем. Хребты раздвинулись, открылась даль. Перед нами лежала зачарованная горная, лесная страна, молчаливая и безлюдная. Впрочем, присутствие человека вскоре обнаружилось в виде небольшой таблички, прибитой к невысокому столбу.
- Господи, - пробормотала я, - неужели снова какая-нибудь «Слава КПСС»?
Но это было другое. Вот, что там было написано: «Чаткальский горно-лесной государственный заповедник. На территории заповедника посторонним находиться запрещено».
Но мы нарушили запрет, и стали спускаться к реке. Мне было неловко. Как же так, посторонним находиться запрещено, а мы идем себе и идем, как будто не нам сказано. Я не боялась, что вот сейчас явится, откуда ни возьмись, какой-нибудь инспектор, начнется выяснение отношений, поднимется скандал, нет, здесь, кроме нас не было ни единой живой души на многие километры, но именно поэтому странное неудобство поселилось в сознании, и я никак не могла избавиться от неприятного чувства.
Меня успокоили. Сказали, что мы далеко не пойдем, лишь спустимся к реке, переправимся на другой берег, и устроим пикник.
- Вы пока ищите брод, он здесь где-то должен быть, а я похожу немного, пошарю, - сказал Гриша и ловко поднялся на какое-то многообещающее место.
Мы с Кириллом спустились к воде и стали искать брод. Прошли вверх по течению, вернулись и прошли немного вниз – никаких признаков брода не нашли, и решили переправляться через порог, показавшийся нам наиболее безопасным. Вода кипела и клокотала среди камней, но нас подкупила их величина. В случае чего, за торчавшие поверх бурунов глыбы можно было хвататься.
Разделись, сунули вещи в рюкзаки, что были у нас, и вошли в воду, в первую яму между двумя камнями, где со дна поднимались многочисленные пузырьки воздуха, делая его невидимым.
- Ты стой на месте, - приказал Кирилл, а я перейду за этот камень.
Я осталась на месте. По коленям била сердитая струя, грозя свалить и утащить неведомо куда. Меня мотало из стороны в сторону, но я держалась и, не переставая, осторожно ощупывала одной ногой дно. Другая нога, я это чувствовала, застряла меж двух камней. Хорошо, мы догадались и не сняли обувь.
- Давай руку, - крикнул муж.
Из-за шума воды приходилось кричать. За протянутую руку я ухватилась, но с места не сдвинулась.
- Подожди, не тяни, - завопила я, - я, кажется, застряла.
Решила нагнуться и сдвинуть с места не пускавший камень. Слава Богу, этого делать не пришлось, нога неожиданно высвободилась сама. Крепко держась за протянутую руку, я перебралась к Кириллу, и оказалась в воде по пояс. Низ рюкзака намок, я сразу почувствовала его тяжесть и стала немедленно соображать, где находятся наши припасы – у него или у меня. Если у меня, то накрылся тогда наш обед.
- Кирилл, - закричала я, - у кого еда, у тебя или у меня?
Но он не услышал и шагнул вперед. Хорошо ему, длинному, он-то рюкзак не замочил. Но местонахождение сухого пайка продолжало беспокоить. А вода, тем временем, хлестала в бок с какой-то необъяснимой яростью, ведь я ничего плохого ей не сделала, а другой берег был еще далеко, до него еще надо было добраться.
Но мы добрались, хоть это и стоило нам неимоверных усилий. Вышли на сушу, скинули рюкзаки, - еда все-таки была у него, огляделись по сторонам, и я гордо сказала:
- Мы с тобой герои!
- Не герои, полные идиоты. Смотри!
Я глянула в указанном направлении и увидела за невысокой скалой широко разлившийся «по камешкам, по желтому песочку» Тереклисай и бредущего по щиколотку в тихой, пронизанной солнцем, ласковой, как котенок, воде Григория Николаевича.
Но даже наша дурость не испортила настроения. Солнце стояло в зените, на соседней арче важно шевелились мохнатые лапы, проглядывали сквозь их зелень голубые шишечки, на высохший тополь снова и снова прилетал дятел, часто-часто стучал клювом, выбивал долгую дробь. Мы наелись, Кирилл и Гриша разлеглись на теплом песке.
Я сидела, опершись спиной о теплый камень, и просто смотрела на высокий противоположный берег. Смотрела, смотрела,… внезапно меня не стало.
Нет, я должна попытаться рассказать, что же со мной произошло, хотя понимаю, как это будет трудно.
Меня не было. Не было мысли, ощущения собственного тела, понимания, кто я и откуда сюда пришла; не было ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, будто я никогда не рождалась на свет. Казалось, то, что было когда-то мной, растеклось, расплескалось во вселенной, но продолжает «видеть», не отдавая себе отчета, как именно оно видит колдовскую вершину далекой горы, монолитной и неприступной, с рваными скалами на вершине. Это не было сном, и это было прекрасно! Может быть, что-то подобное произойдет с нами после смерти? О, если бы так!
Не могу сказать, как долго длилось это состояние. Миг, несколько секунд, минут… меня вернул Гришин возглас:
- Да вот же они!
Он уже не лежал на песке, а стоял поодаль, среди сухой травы и разглядывал какие-то высокие, сухие стебли.
- Какой же я болван, я искал на земле, а цветонос вымахал вон куда. И вот вам, пожалуйста, семена тюльпанов.
Докопаться до луковиц не было никакой возможности, земля затвердела, как камень. Все кончилось сломанным ножом. Тогда мы поднялись и стали собирать семена, маленькие черные зернышки. А про случившееся со мной я никому ничего не сказала.
Года через два, весной, Гриша пригласил нас в гости. Мы сидели за столом во дворе под орешиной, угощались, чем Бог послал в тот день симпатичному семейству Астаховых, а после обеда нас повели смотреть тюльпаны.
Они стояли алой стенкой, плотно прижимаясь изящно изогнутыми бокалами один к другому, лепестки их были заострены и чуть завернуты внутрь.
- Гриша, - ахнула я, - неужели?
- Те самые, с Тереклисая, - гордо ответил он, - в первый раз зацвели.
И, довольный, смотрел на нас и радовался, как ребенок своему успеху.
ПОКОРИТЕЛИ ГОРНОЙ ВЕРШИНЫ
Подняться на высокую-высокую гору, и все-все увидеть сверху, мы мечтали с первого приезда. Но никаких восхождений не получалось. Кирилл, Алексей Петрович и Боря Родин попытались, было, взобраться на противоположный от лагеря склон, но, как и следовало ожидать, вскоре уткнулись в неприступные скалы, и вернулись ни с чем.
Главное, лесники были против наших попыток штурмовать вершины. Мы часто приставали к Алику и Хасану Терентьевичу, чтобы они показали тропу наверх, но они либо отмалчивались, либо дурили нам головы, говоря, что никаких таких доступных троп в окрестностях Акбулака нет.
- Чего вам неймется? – сердился Алик, - приехали отдыхать, и отдыхайте себе. Вот дорога, по ней и ходите, и не лезьте, куда не следует. Вы альпинисты? Нет. Вы даже не туристы…
- А кто мы? – спрашивала я.
- Да кто ж вас знает. Спиногрызы, вот вы кто.
- Э, нет, спиногрызами ты называешь детей.
- Так в горах вы и есть дети. И в одиночку, смотрите, никогда не ходите. У меня эти одиночки, вот где сидят, - и хлопал себя по загривку. Стоило ему узнать, что по дороге прошел одинокий турист, сразу начинался допрос: «Вы с ним говорили? Кто такой? Куда пошел?
- Спрашивал, сколько дней идти до Янгиабада.
- Дал бы я ему Янгиабад! Ни черта не знают, а лезут! Таскай их потом на себе!
Да, он не жаловал одиночек, особенно после истории с Мишей Грубером.
На Тереклисае, почти сразу после водопада «Слезки» стоит темная базальтовая скала, фасадом обращенная к реке, окруженная зарослями ежевики. К скале навечно прикреплена латунная табличка, на табличке выгравирована скорбная надпись: «На этом месте (точной даты я не помню, кажется, это было за год до нашего первого заезда) погиб Миша Грубер. Альпинисту одиночке от туриста одиночки».
Никто не знал, кто такой был Миша Грубер. Стали расспрашивать лесников после того, как прочли надпись на скале.
Миша, действительно, был альпинистом, но в горы ходил один. Что заставляло его так поступать, чрезмерная склонность к романтике, несчастная любовь или просто желание побыть одному, - кто знает?
Он пришел на Тереклисай весной, когда по реке шел коричневый от глины гремящий поток первого паводка.
В то время через Терекли, прямо напротив памятной скалы, висел протянутый для переправы на другой берег трос. После гибели Миши его сняли.
Миша нашел среди снаряжения карабин, взвалил на себя тяжелый рюкзак, закрепил карабином руку к тросу, разбежался и поехал, вися на нем, через реку.
Если бы не паводок, он бы достиг противоположного берега, но на середине пути трос под его тяжестью провис, и он по пояс погрузился в воду. Его стало крутить и закрутило до смерти.
Так бездыханным, висящим на тросе его и нашли лесники, всего в пяти километрах от кордона. Мишу увезли хоронить в Ташкент, а неведомый турист одиночка прибил на скале памятную табличку.
Да мало ли случалось трагических историй в горах. Однажды в начале мая группу туристов при переходе на Караарчу застигла снежная буря; в другой раз взялась на спор переплыть Акбулак во время большой воды, самонадеянная дуреха…
Путь на Абдак все же со временем обнаружился.
Первыми поднялись на вершину Вадим Борода с Петровичем, на следующий год по их следам полезли Кирилл, Никита и я.
Со слов Алика мы знали высоту облюбованной, «доступной» горы – две тысячи восемьсот метров над уровнем моря. Если считать от Большой поляны, предстояло подняться всего на один километр. О чем говорить! Вперед!
С вечера, собравшиеся на небе легкие тучки, обещали пасмурную погоду. То, что надо. Лезть на гору под палящим солнцем, - такой поход никого не обрадует. Проснулись на рассвете, первое, что сделали, - глянули вверх и увидели сплошь затянутое облаками небо. Возликовали, плотно позавтракали, оставили Наташу досыпать в палатке и тронулись в путь налегке, собрав в небольшой рюкзачок литровую банку и фляжку с водой и несколько бутербродов.
Узкий, заросший ежевикой и неприметный с дороги, похожий на желоб проход на гору, находился всего в полусотне метров от слияния. Мы быстро его нашли по особой примете, - вытянутой, как указательный палец, высохшей ветке орешины, свернули с дороги и сделали первые шаги вверх вдоль скального гребешка.
И тут увидели свисающие с камней грозди спелой, необыкновенно крупной ежевики. Каждая ягодка была покрыта сизым налетом, висела неподвижно на стебельке, отяжеленная кисло-сладким соком. Никита с мамой набросились на ежевику, а папа стал ворчать и говорить, что он зря с нами связался, что так мы никогда не доберемся до вершины, и что собрать хоть всю ежевику на Акбулаке нам ничто не помешает на обратном пути.
С трудом оторвались от пиршества и полезли дальше. Подъем был непрерывный, крутой, но несложный, карабкайся себе и карабкайся, опираясь на камни в самых трудных местах.
Миновали желоб, вышли из теснины, подошли к краю неширокой осыпи, огляделись и чуть не застонали от разочарования: небо совершенно очистилось от вожделенных облаков, из глубины бездонного, синего неба лился на нас ликующий солнечный свет.
Я тут же захотела пить. Но мне не дали и глоточка, велели собраться с духом и идти дальше. Что оставалось делать! Пришлось подчиниться мужчинам и ступить на край осыпи.
Подниматься по осыпи в какой-то степени даже удобно, идешь, как по лестнице, стараясь выбирать самые крупные, прочно закрепившиеся среди щебенки камни. Никита с отцом так и делали, а я, поскольку все время отставала, иногда,… ладно, назовем вещи своими именами, лезла на четырех и невольно сравнивала себя с обезьяноподобными предками человека.
Я прокляла все на свете на этой осыпи; время от времени в надежде поднимала голову, но не видела ей конца. А солнце, как назло, поднялось высоко, засияло в полную силу, и негде было укрыться от его всевидящего огненного ока.
Не все камни стояли прочно, некоторые выворачивались из-под ног и катились вниз, грозя увлечь меня вместе с собой. А сын, вместо того, чтобы помочь старой несчастной матери, время от времени оборачивался и покрикивал:
- Мама, что ты там копаешься, давай, скорей!
- А вы не летите, как угорелые, - задыхаясь, кричала я, - и вообще, остановитесь, я хочу пить.
- Кончится осыпь, получишь, - безжалостно отвечал муж.
- Да она никогда не кончится! Связалась я с вами.
- Сама хотела.
Так, переругиваясь, мы одолели проклятую осыпь. Дальше пошла трава, да не просто трава, а настоящий горный луг, где дремучая растительность вымахала человеку по пояс. Одно радовало, это была уже середина горы. Мы сели, достали банку с водой, и, не думая долго, выпили ее на троих до донышка. А когда выпили, спохватились, стали рыться в рюкзаке в поисках фляжки, но фляжки там не оказалось. Кто ее забыл, почему забыл, не стоило выяснять. Мы остались без капли воды под палящим солнцем. Маячила впереди арча, а под ней благодатная тень, но до нее еще надо было добраться.
Посовещались, повздыхали о позабытой фляжке и вошли в шелестящие под ветром заросли. Идти стало легче, несмотря на крутизну, здесь было за что зацепиться, захватив руками пучки травы. Никита немедленно попросил:
- Мама, скажи заклинание!
Я громко, внятно, произнесла:
- Змеи, кыш, кыш! Уходите, уходите, в свою сторону ползите! Кыш!
Но никаких подозрительных, змеиных, шорохов мы не услышали, и полезли дальше.
В травах было душно, пот лил градом, сердце колотилось, как сумасшедшее где-то возле горла; пить хотелось до помрачения, подъем, казалось, никогда не кончится, а еще за шиворот трико стали набиваться ости колосков, колоть и щекотать спину.
Нас предупредили, чтобы мы ни в коем случае не хватались за ядовитую траву с неряшливыми белыми цветами, но никаких подозрительных цветов на нашем пути не было.
И все-таки, через день я обнаружила у себя на сгибе локтя несколько водянистых пузырьков. Потом они прорвались, образовавшиеся черные ранки долго не заживали, а след от них исчез лишь через два года. Такая вот злая трава, а название роскошное – «неопалимая купина»!
Всему на свете бывает конец. Через час, а, может быть, через вечность, обессиленные, мы свалились на землю в тени высокой и пышной арчи. Стало прохладней. Какая-то птичка, серая с прозеленью на спинке, села на самую низкую ветку, стала внимательно разглядывать людей. Вертелась на месте, тихо и как-то вопросительно попискивала, смотрела то одним, то другим глазком, наклонив головку, и нисколько не боялась, хотя, при желании, ее можно было схватить рукой. Потом все же улетела, ныряя в чистом, еще не прогретом на высоте воздухе.
Теперь мы могли оглядеться, хоть не достигли вершины. До нее, до лысого глинистого бугра, оставалось каких-то десять метров, но силы мои иссякли. Я сказала, что не сойду с места, что останусь здесь навсегда, и пусть меня похоронят, засыпав розами и ветвями дуба.
Мужчины засмеялись, сказали, что в связи с отсутствием дуба и роз похороны отменяются, позволили сидеть отдыхать, а сами полезли дальше.
Я стала смотреть в пустоту между мной и противоположной грядой неожиданно выросших, словно явившихся из небытия вершин и вставших вровень с нашей горой. Воздух был слегка разряжен. Соседние высоты находились так близко, что, казалось, если хорошо разбежаться, то пропасть, при желании, можно и перепрыгнуть. Желания не возникло, да и места для разбега не было.
В какой-то момент закружилась голова, все поехало в одну сторону, но вскоре это прошло, и на душе воцарилась спокойная радость. Мир кругом был цветной и разнообразный. Зелень лесов на горах, синева, именно синева, а не голубизна, по-прежнему недосягаемого неба, хоть мы и взобрались высоко, так высоко, как это только было возможно, сочеталась с охрой скал, чернотой языков осыпей, выбегающих из глубоких расселин и белизной мальв, насквозь просвеченных мирным и ласковым солнцем. Их длинные стебли с прилепленными к ним крупными чашечками цветов виднелись вблизи и вдали, стояли смирно в полном безветрии и тишине.
Меня окликнули сверху:
- Мама, иди к нам!
- Не могу! – взмолилась я, - оставьте меня в покое, мне и здесь хорошо
Но они продолжали настаивать: я должна, я просто обязана подняться, иначе буду потом жалеть всю жизнь. Кирилл поставил точку в споре:
- Ради этого мы сюда шли. Вставай!
Пришлось сойти с места, и попытаться влезть на бугор. Как только я оказалась в пределах досягаемости, сверху протянулись руки и меня втащили, втянули, взгромоздили на узкую площадку вершины, где места только всего и было для нас троих, и Никита сказал:
- Теперь смотри!
Из разговоров с Петровичем и Вадимом все знали, что с вершины горы Абдак видно три реки. Я глянула и, действительно увидела внизу тонкие синие ниточки Акбулака, Тереклисая и Саргардона. Из дальних далей, с недоступных снежных хребтов, теперь мы смогли их увидеть, с трех разных сторон, с востока, с юга и севера, они стремились сойтись в одной точке, чтобы бежать дальше к Чаткалу, смешав свои воды в одной реке.
Мы стояли на макушке высокой горы, одинокие и счастливые, и мир лежал у наших ног, и вся жизнь была еще впереди, с радостями и печалями и этой переживаемой сейчас минутой, когда ты вправе считать себя покорителем горной вершины. Мы даже забыли о маленьком горьком разочаровании сына.
Он выскочил наверх, и уже хотел объявить себя первооткрывателем, но, увидел под ногами заржавленную консервную банку, прикусил язык и с жалобным видом, молча, показал на нее поднявшемуся следом отцу. Потом в сердцах пнул ее, и банка долго катилась вниз по северному голому склону, «звеня и подпрыгивая», пока не скрылась из виду.
Насмотревшись, насытив глаза красотой, мы вернулись в тень под арчу. Съели подсохшие бутерброды, отчего еще сильней захотелось пить, и отправились домой. Вершина покорена, больше на ней делать нечего.
А спускаться-то тяжелей, чем подниматься! Чтобы не поскользнуться и не поехать по сухой траве, я плюнула на приличия, села на землю и стала спускаться,… сидя, потихоньку отталкиваясь руками. Муж шел следом и трагическим голосом, не совсем верно, декламировал Маяковского: «Если хочешь убедиться, что земля поката, сядь на собственные ягодицы и катись».
- Что я и делаю, - отозвалась я, стараясь все-таки, чтобы не сильно порвалось трико.
Никита, чертенок, спускался бегом. Вот он достиг осыпи, стал прыгать по камням как горный козел, а у меня сердце обрывалось при каждом его прыжке. Так он и слетел с горы и пропал из глаз.
- Хоть бы нам банку оставил, - рассердилась я, - мы бы внизу набрали воды.
Брошенные сыном, умирающие от жажды, мы спускались по осыпи, поддерживая друг друга, потом вошли в узкий желобок между скалами, где утром останавливались и рвали спелую ежевику.
Теперь никто на нее даже не глянул. Бог с ней, с ежевикой, когда-нибудь, в другой раз придем сюда и наедимся вдоволь. Хотелось одного, - очутиться скорей на дороге и упиться холодной, прозрачной, сладкой, (господи, какая она еще бывает!), чудесной водой из реки. Да вот беда, Никита утащил рюкзак, а вместе с ним банку. А берег здесь обрывистый, из горсточки не напьешься вдоволь. Придется брести в лагерь, и только там утолять жажду, отмачивать спекшиеся губы.
Наконец, спуск завершился, мы вышли на дорогу. Внезапно ноги задрожали, колени подогнулись, я чуть не упала на ровном месте. Муж подхватил меня и сказал:
- Смотри!
В колее, в тщательно расчищенном от щебня углублении, стояла наша банка, наполненная озаренной последним лучом заходящего солнца чистой, прозрачной, холодной, сладкой акбулакской водой.
До сих пор стыдно, что мы тогда так плохо подумали о своем сыне.
Наступил вечер. Сразу после ужина решили пораньше лечь спать. Едва я успела расстелить постель, Никита завалился в угол палатки и уснул, как убитый. Папа стал рассказывать Наташе продолжение сказки про таракана Стасика и его друга таракана Васика, в чем там было дело, я уже не помню, но сказка была очень смешная, звонкий Наташкин смех разносился по всему лагерю. Потом и она уснула. А мне с устатку не спалось, да и Кирилл ворочался рядом, искал удобное место на тощем, со сбившейся ватой матрасе.
Вдруг полог палатки откинулся, внутрь просунулась чья-то голова, меня потянули за ногу.
- Вставайте, - прозвучал шепот Петровича, - нас ждут на плов.
- Кто ждет? Какой плов? - заныла я, - мы устали, спать хотим, ночь на дворе.
- Какая ночь? Половина десятого. Вставайте, соседи ждут.
Пришлось подниматься, искать в темноте шмотки, одеваться на ощупь. А когда выяснилось, что в довершение всех благ предстоит переправляться по мостику и идти к Большому шлему в чужой лагерь, я и вовсе упала духом.
Но оказалось, что ноги, как ни странно, уже почти не болят, и переправа, освещенная сильным фонарем, закончилась благополучно. Целой гурьбой мы перебрались на другой берег и отправились на отблески небольшого костра.
Нашими соседями оказались толстые, добродушные дядьки. Их было четверо. Лет всем было явно за пятьдесят, все, как на подбор, бывшие альпинисты, а на Тереклисай пришли отдыхать, не ходить ни в какие походы и, тем более, не лазать по горам, а сидеть на месте и резаться в преферанс.
Они излагали свою жизненную установку, успевая накладывать на ляган прекрасно приготовленный плов, наливать в стаканы, пиалы и кружки (у кого, что нашлось), водку, раскладывать на расстеленном покрывале хлеб, словом, делать все, что положено в таких случаях. Дядьки оказались веселые и разговорчивые. В какой-то момент вечера, одному из них я доверительно шепнула:
- А мы сегодня поднялись на Абдак!
Он внимательно посмотрел на меня, поправил, ткнув пальцем, дужку очков на переносице, и вкрадчиво спросил:
- А зачем?
Я даже растерялась. Ждала одобрения, вопросов, холодной элементарной вежливости, наконец, а тут, на тебе.
- Вы же альпинисты, - возмутилась я, - а задаете такой вопрос. Вы когда-нибудь поднимались на вершины?
- Поднимались. В дни далекой молодости, и не на Абдак, смею вас уверить. Для нормального альпиниста он не представляет никакого интереса. Но вы, как раз, не альпинисты, вот я и спрашиваю: зачем? Чтобы свернуть себе шеи, переломать на осыпи ноги? Вы этого добивались?
Мне стало скучно. Думала, выдвинет какую-нибудь философию, а у него на уме элементарная техника безопасности. Не стала спорить, включилась в общий разговор, но на душе осталась небольшая царапина. Так бывает, если нечаянным движением стряхнуть с руки ползущего по ней пойманного светлячка, он упадет в траву, затеряется среди палой листвы и погаснет.
Впрочем, это чувство потом прошло. Остался в памяти день «великого» восхождения, увиденные дали и гордость покорителя. А спрашивать себя: «Зачем?»… Да ни за чем. Мы там были и точка.
НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК
Следует сразу сказать правду, - в те счастливые давние времена он еще не был полковником, и Алла Пугачева еще не спела свою коронную песню. В те годы мы напевали «Арлекина» и «Королей», не имеющих возможности жениться по любви, а Алексей Петрович Светлов был всего лишь майором, военным летчиком.
У меня в классе училась его дочь Светлана. Вот так мы познакомились, а чуть позже и подружились семьями. Дружба продолжается по сей день. Теперь уже полковник, он давно в отставке, давно дед своих взрослых внуков, но стоит нам собраться по какому-нибудь поводу, о чем, рано или поздно заходит разговор? – естественно, об Акбулаке. И если я начинаю горевать о безвозвратно потерянном прошлом, он повторяет одно и то же:
- Не ной. В твоей жизни был Акбулак? Был. Вот и будь счастлива. Радуйся.
Я радуюсь, радуюсь…
В нашу компанию он вошел легко, со свойственной ему непосредственностью, как равноправный член акбулакского братства, и никто никогда об этом не пожалел.
В то время у майора не было автомобиля. У него был мотоцикл с коляской. Лишь только Петрович получал возможность пойти в отпуск, в коляску складывались припасы, усаживались девчонки, Света и Надюшка, на заднее седло жена Катерина и… «марш вперед!». Таким образом, они объездили половину Советского Союза. Были в Боровом, на Байкале…
Не стану распространяться здесь обо всех путешествиях и приключениях Петровича и его семейства, достаточно Акбулака.
Все дети Большой поляны не могли спокойно видеть его мотоцикл, вечно вертелись возле него, мальчишки по очереди усаживались в седло, делали важный вид, будто едут. Иногда Петрович издавал клич:
- Кто хочет кататься – садись!
В коляску наваливалась «куча мала», уезжали с веселым визгом. Вернувшись, делились впечатлениями:
- Мама, мама, - восторженно кричала моя Наташка, - а мы козлика видели! С рожками! Вот такого малюсенького!
И показывала размер «козлика», сблизив ладошки.
- Как же он может быть таким малюсеньким, горные козлы большие, - уговаривала я.
- Мама, ты не понимаешь! – поднимала голос до писка, - он же был далеко.
О своей службе Петрович особенно не распространялся. Как-то раз Лида Безбородько притянула его за рукав, заставила сесть возле себя на бревнышко:
- Сядь, посиди спокойно, что ты все суетишься, расскажи лучше про свою работу. Как вы там летаете?
Петрович обратил к ней серьезное лицо, важно поднял бровь.
- Сейчас я тебе все расскажу. Значит, так. Садимся в самолет, прогреваем мотор, даем команду «от винта!» и – ж-ж-ж-ж-ж, - он широко раскинул руки и показал, как летит самолет, потом перевел невинный взгляд на макушку растущей возле его палатки березы. Собеседница с легким вздохом поднялась.
- Сперва «от винта!», а потом преодолеваем звуковой барьер. С тобой все ясно.
С ним было все ясно. Он был хорошим товарищем. С ним можно было идти в разведку и, само собой разумеется, в горы. Что мы и сделали в наш первый приезд, - отправились на Караарчу, левый приток Акбулака в шести километрах ниже кордона лесников.
В тот год Караарча была у всех на устах. По пути к Большой поляне нам довелось увидеть лесной пожар. Нанятый в Ташкенте грузовичок мирно ехал все дальше и дальше. Сидя в открытом кузове, дети и взрослые вскрикивали от восхищения при виде новой, развернувшейся после очередного поворота панорамы, с нетерпением ждали следующего поворота и дождались. Высокий левый берег над Караарчой открылся внезапно, с горящими деревьями, со шлейфами сизого дыма. По сухой траве вниз по склону тут и там стекали ручейки огня, оставляя за собой черный выжженный след. Уткнувшись в корневище следующей жертвы, огонь исчезал, как бы умирая, но через секунду, снизу до верху, елку охватывало пламя, и она мгновенно превращалась в гигантский багровый факел. Мы проезжали мимо и в ужасе смотрели, как гибнет прекрасный свидетель завершившейся череды лет – вековой арчовник.
На Большую поляну прибыли в пятом часу вечера. Следовало быстро, до темноты, разгрузить машину и успеть раскинуть палатки. Вещи сбрасывали, как попало. А чтобы малышки, Таня и Наташа, не болтались под ногами, среди молодых деревьев боярышника поставили раскладушку, сложили на нее тюфяки и одеяла, посадили сверху девчонок, строго наказав, никуда не уходить.
Темнело быстро, как это бывает в горах. Все торопились, со всех сторон несся стук забиваемых в землю колышков; у кого-то порвалась веревка; кто-то искал и не находил среди инвентаря саперную лопатку. О смирно сидящих девочках все забыли. Сидят себе тихо, и молодцы, пусть сидят.
Наконец, дело было сделано. Я подошла к раскладушке и увидела среди первозданной, затаившейся в сумерках дикой природы двух несчастных городских человечков с одинаково круглыми от страха глазами. Казалось, еще минута, и они заревут в голос.
- Девочки, вы чего? Чего вы испугались?
- Пожара, - жалобно протянули они.
И только тогда до меня по-настоящему дошло, что на Караарче произошла непоправимая катастрофа.
Потом, конечно, все убеждали девчат в полной безопасности нашего места, говорили, что пожар далеко и до нас не доберется, что им здесь будет хорошо, что наутро исчезнут все страхи, они привыкнут, и даже не захотят уезжать, когда закончится отпуск.
И, правда, на другой день никто из них не вспомнил о пожаре, они быстро освоились и навсегда полюбили простор и волю Большой поляны. Но я и сегодня вижу, будто это было вчера, две тесно прижавшиеся друг к другу фигурки и помню ароматный запах дыма с пожарища. Его тянуло к нам за шесть километров. Ведь арча родственница сандала, сгорая, душистая древесина чудесно пахнет, будто при мирном жертвоприношении в тихом вселенском храме.
И многие годы потом стояли на склоне обугленные стволы с черными сучьями, будто нарочно изогнутыми под разными углами, четко видимые на фоне желтой, выгоревшей под солнцем травы и синего неба.
В конце лета мы собрались идти на Караарчу вчетвером: Петрович, Боря Родин, Кирилл и я. Детей не брали. Да они особенно и не просились, предпочитая дальнему походу купание в безопасной бухточке и возне в теплом и чистом песке под чьим-нибудь зорким присмотром.
Здесь надо сказать несколько слов о Боре. Это был очень добрый и немного рассеянный человек в очках с толстыми стеклами. Очки плотно сидели на его, отдаленно напоминающем римский, носу. Он был немного сутуловат, узок в плечах, поэтому создавалось впечатление, будто при встрече сначала появляется нос, а уже следом за ним сам Боря. К любым жизненным проявлениям, будь то работа или отдых на природе, он относился с педантичной добросовестностью. Уж если ты приехал на Акбулак отдыхать, так отдыхай, идешь в поход – не останавливайся!
Одно лето, большой акбулакской компанией, мы проводили на Черном море, в Абхазии, в Гантиади. Просыпаюсь рано утром, часов в семь, смотрю, Боря выходит из соседней комнаты снимаемой нами половины дома в плавках, с полотенцем через плечо. А утро холодное, дождик накрапывает.
- Боренька, ты куда?
- На пляж, купаться.
- Так ведь холодрыга! Простудишься.
- Мы приехали сюда купаться, значит, надо купаться.
Строго глянул на меня сквозь линзы и отправился вниз, на берег.
Мы относились к нему с добродушной иронией, он об этом знал и не обижался, снимал очки, начинал протирать их чистым носовым платком. Взгляд при этом становился неопределенным и виноватым. Жена Ася относилась ко всем недостаткам Бореньки с великодушным терпением.
Прежде, чем попасть на Караарчу, надо было протопать вниз по дороге шесть километров, затем переправиться на другой берег в люльке. Шесть километров в тени тополей и кленов мы одолели быстро. Немного беспокоило сделанное вскользь упоминание о люльке, но Петрович заверил, что переправа произойдет быстро, и что она совершенно безопасна.
Скоро показалось ущелье Караарчи, узкая угрюмая щель с вытекающей из нее неширокой речкой.
Глянула я на обещанную безопасную люльку, висящую на толстом, заржавленном тросе, и душа моя исполнилась великого опасения и невидимой миру дрожи. И еще обреченности. Все равно ведь перевезут.
И перевезли. Петрович схватил, затащил, сел рядом в шатком, металлическом сооружении, как бы сплетенном из железных полосок, Кирилл и Боря стали крутить ручку какого-то допотопного механизма, люлька со струнным басовым пением поехала по тросу, мы пронеслись над волнами сердитого Акбулака, и через минуту оказались на другом берегу. Даже понравилось.
Пока переправлялись остальные, я приблизилась к устью ущелья и заглянула внутрь. Кроме уходящих в небеса отвесных, замшелых скал и мелкой, тихо журчащей речки ничего не увидела. Сгоревший склон остался наверху, и здесь ничто не напоминало о находившемся там пожарище. Мы собрались все вместе и тронулись в путь.
Тропа оказалась совершенно безопасной и даже скучной: она все время ныряла в воду. Пройдешь метров десять по правому берегу, раз, - переходи речку. Перешел, продвинулся вперед на двадцать метров по левому берегу, и снова та же история.
Поначалу мы разувались и брели по воде босиком. К счастью, ее было не много, наступил август, речка обмелела, хотя, говорили, что в паводок она довольно полноводная и бурная.
После нескольких переходов разуваться надоело, ноги мерзли, обувь противно чавкала и хлюпала.
Неугомонный Петрович заставлял часто вертеть головой, - посмотрите налево, посмотрите направо; там, гляньте, гляньте, скала похожа на дровосека с топором, а там, ну вылитая собака!
- Точно, барбосина! У, зверюга какая! Что самое интересное – уши расположены симметрично. Один глаз, правда, подгулял, маловат. Зато нос на месте.
Мы соглашались с Петровичем, помня о его пристрастии к резьбе по дереву. Вечно он притаскивал в лагерь какие-нибудь корешки, вертел в руках, пока не находил интересный ракурс, ковырял ножом, подтачивал и вытачивал. Вот и теперь по его команде мы останавливались и вместе с ним находили все новые и новые природные скульптуры.
А тем временем, Боря шагал в серьезной сосредоточенности, все вперед и вперед, прямо к поставленной цели. Идем к верховьям Караарчи? Так надо идти, а не отвлекаться по пустякам и не орать попусту в восторженном экстазе на все ущелье.
Через какое-то время скалы немного раздались в стороны, образовав небольшой ложок, с аккуратной двухместной синей палаткой, складным столиком и очагом. Посреди неожиданного лагеря сидела женщина, перед ней, на подставке из плоского камня шумел походный примус, на примусе стояла сковородка, на сковородке жарилась, плотно уложенная рядами мелкая рыбка, судя по всему, османчики. Чуть поодаль, там, где в Караарчу впадал безымянный приток, стоял рыбак с удочкой. Увидел нас, оставил свое занятие, подошел, вывалил в миску новую порцию свежей рыбы и стал знакомиться с каждым, пожимая руку и улыбаясь. А женщина (не помню точно, кажется, ее звали Оля) скинула со сковороды на тарелку подрумяненных рыбок, придвинула и сказала:
- Угощайтесь.
Нас не пришлось долго упрашивать. Рыбешка аппетитно хрустела на зубах и съедалась вся целиком, не нужно было искать косточки, отрывать и выбрасывать плавнички и хвостики. Скоро на тарелке ничего не осталось. Мы поговорили с гостеприимными хозяевами, спросили, не страшно ли им здесь одним, поблагодарили за угощение, и отправились дальше.
Через некоторое время маленький одинокий лагерь и симпатичная пара остались далеко позади
А еще позже Кирилл обнаружил прекрасное место для привала, поросший свежей травой пятачок свободной земли посреди ущелья. Мы решили остановиться. Петрович сказал, что вскоре тропа упрется в скалу, и без специального снаряжения ее не преодолеть. После Олиной рыбки у нас разыгрался аппетит, мы съели все принесенное с собой и разлеглись отдыхать на бережку.
Но Боря не угомонился. Он решил все же дойти до тупика и лично убедиться в его неприступности. Он ушел, а мы продолжали сибаритствовать и ждать его возвращения.
Прошел, примерно, час. Бори не было. Мы слегка забеспокоились, несколько раз окликнули его, но никто не отозвался. Петрович бросился по его следам, и вскоре вернулся.
- Ребята, мистика какая-то. Я дошел до конца. Дальше – стена, Боря не мог на нее взобраться. Но его нигде нет.
Мы взволновались не на шутку. Кирилл высказал предположение, что он проскочил мимо нас и отправился домой. Петрович запротестовал.
- Такого не может быть! В горах так себя не ведут! Боря не мог уйти! Он должен был предупредить!
- Куда же он тогда делся?
Мы недоуменно смотрели друг на друга и пожимали плечами. Заблудиться в тесном ущелье он не мог, как не мог отрастить крылья и улететь.
Ничего не оставалось, мы отправились в обратный путь, в надежде обнаружить Борю дома, целого и невредимого.
В лагере наших новых знакомых никого не было. Палатка была задраена, примус потушен, посуда прибрана. Видно они, как и собирались, ушли рыбачить на левый приток Караарчи.
Смеркалось, когда мы вышли из ущелья. Никаких следов Бори. Настроение испорчено. Но оно стало подниматься после возмущенного крика:
- Вот поросенок! – возопил Петрович, - он таки ушел без нас!
- С чего ты взял?
- Гляньте, люлька на том берегу, а на Караарче никого не было. Значит, он переправился и ушел.
Кирилл добавил:
- Если он по рассеянности еще и закрепил люльку, мы долго будем здесь куковать.
К счастью, люлька была не закреплена. Воротом Петрович и Кирилл переправили ее к нам по тросу, мы по очереди переехали через Акбулак.
Домой пришли в густых сумерках. В зеленоватом небе уже начали появляться белые капельки звезд. И первый, кого мы увидели возле общего стола, был живой и невредимый Боря Родин.
- Ну, знаешь ли! – возмутился мой муж.
Ничего больше не прибавил и ушел в палатку переодеваться.
- А что? – на голубом глазу спросил Боря.
- Как, что? – вскипел Петрович, - какое ты имел право уйти, не предупредив! Мы волнуемся, ищем его, а он… так в горах, между прочим, себя не ведут.
- Да что я такого сделал? – не сдавался Боря, - я прошел мимо вас, я был уверен, что вы меня видели.
- Мы тебя не видели.
- Ну, уж тут я не виноват!
Петрович понял, что спорить бесполезно, махнул рукой и ушел к себе. Больше мы Борю в походы с собой не брали.
Прошло несколько лет, и семейство Петровича перестало появляться на Большой поляне. Ему, жене и девочкам приглянулось другое место на реке Аксакате, не столь живописное, как Майдантал, но более доступное. Он и нас пытался сманить, заполучить в компанию, но мы остались верны Большой поляне. Может быть, причиной перемены места послужила покупка белых «Жигулей», и Петровичу не хотелось бить по камням новенькую машину, кто знает. Понять его было не трудно. Он столько лет ждал, пока придет его черед на право приобретения автомобиля, а дорога на Акбулак… все эти Полутуннели, Черные спуски и Мокрые подъемы… Не проще ли доехать до Аксакаты по мирному, пусть в колдобинах кое-где, но все же асфальту?
- Что, - говорил он нам, - так и будете каждый раз сбивать глушитель, царапать дно?
- Так и будем, - смиренно отвечали мы.
Но однажды, уже в новые времена, ранней весной, уговорил. Мы решили съездить посмотреть Аксакату на нашем «Москвиче» на один день, с Наташей, пятилетним Сережей и, естественно, с Петровичем в качестве экскурсовода.
Была середина апреля. День, как на грех, выдался пасмурный. В надежде, что тучи к обеду разойдутся, и весеннее солнце согреет влажную землю, юную листву и траву, мы тронулись в путь.
На место прибыли в начале двенадцатого, но солнце так и не показалось. В довершение всего поднялся ветер, и прекрасно замаринованный с вечера шашлык получился местами пригоревший, местами сырой.
Бедный повар, Кирилл Владимирович, ругался, чертыхался. Подавая очередную палочку, извинялся и говорил, что он не виноват, виноват ветер, угли то гаснут, то разгораются, жир вспыхивает… Словом, все не так, все не по-нашему.
Все утешали его, как могли и, хоть и пригорелый и пересохший, а шашлык с аппетитом съели.
Только пообедали, как назло, ветер стих, тучи разошлись, на какое-то время солнце выкатилось, озарило дальний снежный хребет, ближние невысокие зеленые холмы и поляну с нашим биваком под ветвями старой-старой, дуплистой ивы.
- Нет, - вынесла приговор Наташа, - здесь хорошо, но это не Акбулак.
Правда, Петрович уверял, что до главного места мы так и не доехали, но почему-то ехать дальше никому не захотелось, а зря. Знать бы заранее, что предстоит нашим мужчинам, немедленно бы покинули облюбованную полянку.
Неподалеку от места, где Кирилл установил складной стол, чуть ниже, протекал неприметный ручей и тут же терялся среди трав в небольшом болотце. Петрович знал о его существовании, своевременно предупредил Кирилла, тот благополучно провел «Москвич» между влажным участком и подножием горки, и поставил машину в сухой, безопасной ложбине.
И вот, только мы собрались идти гулять и осматривать окрестности в надежде найти грибное место, как, откуда ни возьмись, с пустынной дороги лихо свернула в нашу сторону изумрудно-зеленая иномарка (как позже выяснилось – «Пежо»), промчалась, чуть не подпрыгнув, по камням и кочкам и со всего маху уткнулась в болото. Шофер крутанул руль, попытался лихо развернуться, чтобы выехать на сухое место, да где там. Мы стояли и смотрели, как задние колеса чужой машины медленно погружаются в жижу по самую ось.
Открылась дверь, из машины вышел испуганный водитель, парнишка субтильного телосложения, весь затянутый в черную кожу с заклепками и ремешками.
Открылась и задняя дверь. Показалась изящная ножка, обутая в туфельку на высоченной шпильке. Шпилька немедленно погрузилась в глину, но галантный полковник вовремя успел подскочить и извлечь из салона в целости и сохранности (если не считать испачканного каблука) длинноногую девицу в куцей юбчонке намного выше колен, в белой курточке с меховой опушкой.
- А я? – раздался изнутри жалобный голос.
- Да сколько вас там, на килограмм? – удивился Петрович.
- Только две! – и наружу выглянула лукавая мордочка в платиновых кудряшках.
Если бы Петровичу и моему любимому мужу свойственно было следовать известному правилу, гласящему не менее известную аксиому о том, что спасение утопающих дело рук самих утопающих, мы бы благополучно отправились на прогулку. Но ни Петровичу, ни моему, повторяю, любимому мужу даже в голову не пришло последовать этому правилу. Соединив усилия с юным водителем «Пежо», они ринулись вытаскивать застрявшую машину.
Ах, показался бы в это время на шоссе хоть один захудалый грузовичок! Легковушку взяли бы на буксир, дернули пару раз и выволокли бы на сухое место. Но не было поблизости никакого грузовика, пустынна была дорога.
Господи, чего только они не предпринимали! То Петрович садился за руль, то заводить мотор выпадало на долю хозяина, а эти двое, погружаясь в грязь до колен, почти ложась на нее, скользя и кряхтя, месили ногами болото, пытались сдвинуть задок машины хотя бы на пять сантиметров. Все тщетно!
А на вершине холма, стройные, словно фарфоровые статуэтки, стояли две девицы и скорбно взирали на предпринимаемые усилия спасти «Пежо» как средство передвижения.
- Нет, так дело не пойдет, - вытер грязной ладонью мокрый лоб Петрович, - надо рвать траву ломать ветки и подкладывать под колеса. Девчонки, - нарушил он созерцательное состояние двух девиц, - давайте, помогайте, рвите вон там траву и носите нам.
- Но мы же на каблуках! – хором возопили девицы.
- Будете знать в следующий раз, как ездить в горы в неподходящей обуви! – не принял отговорки жестокий полковник. – Хотите уехать, идите за травой и ломайте ветки.
И долго с сомнением смотрел, как невинные жертвы аварии, семеня и подворачивая ножки, спускаются с холма, идут к указанному месту с относительно высокой травой, наклоняются, хотя наклоняться им как раз таки не рекомендовалось, и осторожно рвут по стебельку осоку и мяту.
- Ну, уж дудки, - сурово сказала я, - я в этом благотворительном базаре принимать участия не собираюсь. – Пошли гулять!
И мы с Наташей взяли ребенка, и ушли за зеленые холмы к небольшому мутному озерку с огромной корягой у берега. Там мы видели большущую старую лягушку, бросали в воду голыши, сажали Сережу на корягу и фотографировали его, а он кричал:
- Динозавр! Динозавр! Я еду на динозавре!
Коряга, и правда, была похожа на динозавра. Потом я нашла под кустами боярышника семейство грибов строчков и набрала полный, благоразумно взятый на всякий случай пакет. Правда потом меня заставили все выбросить, говоря, что такие грибы есть нельзя, они ядовитые. А за холмом, невидимая нам, жалобно ревела и ревела мотором чужая машина, и все никак не хотела выезжать из цепко державшего ее за колеса болота
Долго рассказывать. Им удалось сдвинуть с места «Пежо» и отвести его на безопасное расстояние от раскатанного, развороченного колесами месива только к пяти часам, когда небо снова нахмурилось, когда оно собралось просыпаться мелким нудным дождем.
Милые девицы и парень рассыпались в благодарностях, клялись спасателям никогда их не забывать, потом все трое нырнули в машину и уехали. Петрович, брезгливо разведя руки, с сомнением оглядел себя и Кирилла.
- Черт, перемазались все с ног до головы.
- Вольно ж вам было. Испортили праздник.
Он прищурился на меня.
- А что ты хотела? Чтобы мы их бросили и ушли?
В этом и весь Петрович.
Настоящий полковник.
Но на Аксакату мы больше не ездили.
БАЛЕРИНА И ДРУГИЕ…
Настало время рассказать об окружавшем нас животном мире. Диких зверей мы видели очень редко, они не имели привычки показываться на глаза, если не считать норок. Эти любопытные, необыкновенно грациозные черные зверьки, стоило подойти к речке, подглядывали, следили за нами, спрятавшись за каким-нибудь обмытым водой корнем тополя или за камнем. Глянет, после спрячется; потом медленно-медленно подкрадется и снова выглядывает.
Медведицу с двумя медвежатами видел однажды Никита. Он сидел у входа в заброшенную штольню на Терекли высоко над рекой, а она прошла внизу по другому берегу. Восторгу моего сына не было предела.
Но это была не единственная медвежья история. Однажды, я уже рассказывала, собирая ежевику, прошлась по следам Михаила Потапыча, в другой раз мишка забрался ночью в лагерь. Все слышали, как кто-то бродит среди палаток, гремит посудой. Еще, помню, муж ворчал:
- Кому там не спится?
Пробормотал что-то нелестное и повернулся на другой бок. На следующий день на выезде обнаружилась куча помета, а возле стола разбросанные пустые кастрюли.
А еще визитами медведей любили разыгрывать новичков. Устраивать, как любил повторять Гриша, - джеклондоновские «Страшные Соломоновы острова». Для этой цели он и Вадим специально ходили на кордон, просить у Алика клочок шерсти из медвежьей шкуры. Алик охотно шел навстречу пожеланиям трудящихся и принимал живейшее участие в затее. Но портить шкуру не позволял, говорил, что для новичка сойдет и баранья шерсть, такой же неопределенной масти, но зато в большом количестве.
В ночи клочья шерсти разбрасывались у входа в палатку разыгрываемой жертвы, Григорий Николаевич издавал громкий медвежий рык и ронял на землю какой-нибудь казан или сковородку, а на утро все толпились на месте происшествия и неестественно-противными голосами обсуждали ночной визит. Кто-то покупался на дешевизне, а кто-то смотрел скептически на воодушевленных собратьев и внимательно присматривался к подозрительным ошметкам:
- Что-то этой шерсти тут слишком много, он линяет, этот ваш медведь, что ли?
Гриша и Вадим вздыхали: перестарались.
Горных козлов с каждым годом становилось все больше, увидеть мирно пасущееся на склоне стадо не составляло особого труда, только для этого следовало пораньше встать.
Несколько раз видели ласок, чудесных зверьков в золотистой шубке, с глазками, похожими на черные бусинки на небольшой аккуратной головке; как-то раз в лагерь принесли выпавшего из гнезда орленка. Орленок смотрел строго, часто поднимал недавно оперившиеся крылья, никого не боялся и с удовольствием склевал поднесенного к носу кузнечика. Его увезли в Ташкент, выкормили, держали в клетке, но он сумел выбраться из нее и улететь от приемных родителей. Я думаю, поднявшись высоко над городом, он увидел зоркими глазами родные горы и взял верное направление.
Вот, пожалуй, и все наши встречи с дикими животными. Кабанов, барсуков и дикобразов видеть не доводилось. Да, а еще на Саргардоне, неподалеку от нашей палатки, на откосе среди камней проживало в норке семейство сусликов. По утрам они выходили на свет божий, садились столбиками на жирные задние лапки и начинали пересвистываться.
Но в разное время на Акбулаке проживало множество собак и кошек, как местного значения, так и привозимых нами из Ташкента.
На кордоне с кошками ничего не получилось. Алик пытался их завести на страх мышам и крысам. Он приходил в лагерь, просил, чтобы мы отпустили с ним на некоторое время нашего Тимошу для романа с его тоскующей кошкой, но у Тимоши была своя жена Мурка, и чихать он хотел на местную достопримечательность. В первую же ночь удрал и вернулся в родную палатку. А, может, потом и наведывался к соседке по ночам, кто его знает, только вскоре жительница кордона пропала. Кошка была красивая, пушистая, ласковая, скорее всего, ее украли проходящие туристы.
Тимофей и жена его Мурка прожили на Акбулаке, на лоне природы, целый месяц. Но вот настала пора уезжать. В четыре глаза наши звери внимательно наблюдали, как мы собираем вещи, снимаем и складываем палатку, сносим в машину матрасы. Видимо, они что-то поняли, и когда мы бросились их звать, чтобы затолкать в «Чебурашку», ни одного кошака на месте не оказалось. Битый час мы потратили на то, чтобы обнаружить их, сидящих высоко на дереве. Чертыхаясь и проклиная всех кошек на свете, Кирилл полез на орешину, снял покладистого, несколько флегматичного Тимофея, а негодница Мурка кубарем слетела вниз и лихо вскарабкалась на ветку соседнего тополя. Мы стали трясти тонкое деревце, пытались ее сбить, сулили все возможные на свете блага. Но она только сильнее впивалась когтями в кору, и ни за что не хотела спускаться.
Долго мы с нею возились. Наконец, кошка была поймана, я понесла ее к машине. Возле самой дверцы она каким-то чудом вывернулась из рук и дала деру. Пришлось все начинать сначала. Вконец рассерженный, муж сел за руль, поклявшись самыми страшными клятвами больше никогда не возить на Акбулак кошек.
Никиты в тот кошачий год с нами не было, он служил на флоте, в Североморске, Наташа перешла в десятый класс. С нами были в той поездке два моих бывших ученика, только что окончившие исторический факультет. Но я не о них хочу рассказать, я хочу продолжить историю с кошками.
Итак, мы едем домой впятером по уже неоднократно упоминавшейся горной дороге. Кирилл за рулем, я на переднем сиденье, в ногах куча барахла. Сзади Наташа и пара здоровенных парней; на крыше автомобиля багажник, на багажнике груз, высотой в половину «Чебурашки». Некуда было деть две драгоценные керосиновые лампы. Мы слили из них керосин и вручили ребятам, наказав обращаться с лампами осторожно, и особенно беречь дефицитное ламповое стекло. Незачем напоминать, что на подъемах пассажиры должны были выходить из машины.
Все вышли на очередной крутизне и, растянувшись цепочкой, побрели пешком, оставив шофера подниматься на горку, а потом остужать мотор.
А на берегу реки, ничего такого особенного не ожидая, спокойно стоял рыбак и удил рыбу. Внезапно, к великому его удивлению, появилась из-за поворота длинноногая, стройная девица. Нет, в появлении девицы ничего удивительного как раз не было – красивые и длинноногие на Акбулаке водились. Но на плечах у этой возлежал огромный, полосатый кот, придерживаемый за передние и задние лапы, спущенные по обе стороны длинной лебединой шеи.
Наталья невозмутимо прошла мимо, кивнула головой, здороваясь, и скрылась за ближайшим поворотом. Рыбак проводил ее настороженным взглядом, но на этом его испытания не кончились.
Следом за исчезнувшей из глаз юной леди, появился голый по пояс молодой человек, одетый в шорты и шлепанцы. В руках у парня не было ничего, кроме совершенно неуместной в данной ситуации керосиновой лампы. Помахивая лампой, как кадилом, он шел, напевая что-то себе под нос. Рыбак и его проводил удивленным взглядом.
Каково было его изумление, когда следом за первым, появился второй, точно так же одетый, такой же светловолосый с точно такой же керосиновой лампой. Рыбак уронил удочку, зажмурился и затряс головой. Но и это был не конец. На сцене появилась я с Муркой на плечах, с перекинутыми на грудь ее передними и задними лапами, крепко сжатыми моими руками.
Полагаю, рыбак подумал, будто все это ему мерещится с перегрева. Но тут из-за поворота появился, переваливаясь с боку на бок знаменитый ЗАЗ-965, и все встало на свои места. Подул ветерок, зашумела в реке вода, запели птицы. Рыбак повел головой, поднял с земли удочку, нацепил на крючок ягодку магалебки и вернулся к прерванному занятию.
Собака Найда и кошка Коша принадлежали Скворцовым. Найда приблудилась к ним в Ташкенте уже во взрослом состоянии. Однажды Вадим открыл гараж, чтобы поставить машину, и обнаружил внутри испуганно прижавшуюся к железной стене собачонку, помесь «таксы с дворняжкой».
Вадим бросил ей половину батона, собака, хоть и была голодна, даже не подумала набрасываться на подачку, заскулила и зажмурила глаза. Вадим закрыл гараж, присыпал снаружи землей обнаруженный подкоп и ушел домой. Наутро собака встретила его у порога, вертя хвостом, а еще через некоторое время стала провожать от гаража до дома. Кончилось просто, - несчастную бродяжку пустили в комнаты и назвали Найдой.
Найда оказалась чудесной собакой. Она была умна, добра и вежлива. Русским языком владела, как своим родным. Отвечать она, разумеется, не могла, но все прекрасно понимала, преданно глядя в глаза Веры. На Акбулак приезжала с радостью и вела себя по-хозяйски. В походах, убегала далеко вперед, останавливалась в тени дерева и терпеливо ждала остальных. Как только мы начинали приближаться, снова бежала трусцой к следующему пятнышку тени, сидела, насторожив уши и перебирая от нетерпения передними лапками-коротышками.
Как-то раз я зачем-то шла в сторону палатки Скворцовых и увидела странную картину. Необычно, я бы сказала даже, не совсем естественно, Найда, пружиня и отрываясь от земли всеми четырьмя лапами, подпрыгивала на месте и тихо повизгивала в такт прыжкам. Я подошла ближе, и почувствовала, как у меня обрываются внутренности и пустеет голова. В полуметре от собаки, прямо под палаткой, лежал крупный щитомордник. Вернее, не лежал, а извивался на месте, подняв для атаки голову. Я отчаянно заорала, прибежал народ, Саша Безбородько подцепил змею палкой и швырнул в Акбулак.
Щитомордник для человека ядовит не смертельно, да только лучше ему на зуб не попадаться. Как-никак родственник гремучей змеи. У нас со змеями было много встреч, но о них я расскажу в другой раз.
А тогда, проводив взглядом улетевшего в речку врага, Найда удовлетворенно замахала хвостом, побежала к Вере ласкаться. Что и говорить, собачка получила от всех полную порцию похвал. Ее гладили, хлопали по спине, а она вертелась между нами, страшно довольная, а потом деловито побежала к миске и стала лакать воду. Возможно, этим она хотела окончательно успокоить расшатанную нервную систему.
У Найды была подружка – Коша, гладкая, черно-белая кошечка. Вера подобрала ее котенком, и, само собой, разумеется, Кошу в первый же год привезли на Акбулак. Ей было всего месяцев пять от роду, и насмешила она нас в тот приезд до слез.
Дома котенка приучили «ходить» в миску с мелко нарезанными кусочками бумаги вместо песка. Все прекрасно, Коша отлично справляется со своими делами, скребет когтями дно посудины, чистота соблюдена, все довольны. Но в горах ставить для нее миску никому не пришло в голову. И вот несчастное животное тревожно носится по песку, но привычного эмалированного сосуда с битым в одном месте бочком не находит. Тогда Коша вспрыгивает на ближайший валун, и начинает усердно скрести его коготками. Мы догадались, в чем дело, лишь, когда из-под нее вниз по камню потекла тонкая струйка.
- Бедная моя кисонька, - взяла ее на руки Вера, - вот же песочек, глупая. Вот так надо делать, вот так, вот так, - водила она кошачьей лапкой по песку.
И научила. Но юной хищнице было суждено опозориться еще раз.
Чтобы не портились в горном климате овощные запасы, мы аккуратно раскладывали их на расстеленный за палаткой брезент. Баклажаны там, болгарский перец, свекла, капуста не должны были соприкасаться. Сверху все накрывалось каким-нибудь ветхим тряпьем. Овощи подсыхали, но не плесневели.
Разумеется, полевые мыши вскоре разнюхали, чем тут можно поживиться, и повадились грызть болгарский перец и свеклу. Капусту они почему-то не трогали.
И вот средь бела дня, никого не опасаясь, с каким-то потрясающим нахальством, бежит по краю брезента мышка. Вера хватает кошку:
- Смотри, Коша, мышка, лови ее! Лови!
Глянула кошка янтарным глазом на мышку, испугалась, вздыбила шерсть, превратила хвост в какое-то подобие ершика для мытья бутылок, фыркнула и помчалась прочь от страшного зверя. А страшный зверь мгновенно шмыгнул в другую сторону.
Что и говорить, бедную Кошу дружно осмеяли, и она, совершенно сконфуженная, надолго забилась в палатку. Потом все же реабилитировалась, разобралась, что к чему, стала исправно ловить мышей. Она их никогда не ела, заигрывала до смерти, а потом приносила и клала к ногам хозяйки.
Через год Коша стала солидной кошкой с несколько вздорным характером. Крайне редко, но она все же устраивала скандалы с Найдой. То они «не разлей вода», гулять ходят вместе, вместе едят из одной миски, то вдруг, ни с того, ни с сего, разъяренная фурия вцепляется когтями в собачью морду. Собака, естественно, не остается в долгу, - в квартире начинается настоящий содом. Но, следует отметить, на Акбулаке они никогда не дрались, видно там им хватало места, чтобы вовремя разойтись с миром.
На въезде на Большую поляну с незапамятных времен лежало поваленное ураганом дерево. Постепенно сучья его уходили на наши костры, слезала кора, и вскоре на земле осталось лежать чистое и гладкое, омытое дождями серое бревно. Оно немного не доставало до земли, так как опиралось противоположными концами на два бугорка, и под ним всегда была узкая полоска тени. Почему-то именно эту полоску облюбовала стая майн. Птицы прилетали в определенное время, после четырех часов дня, и устраивали под бревном профсоюзное собрание. Что-то они там обсуждали, о чем-то спорили, вспоминали старые обиды. Гвалт при этом стоял необыкновенный. Спустя час, майны улетали и оставляли нас в покое до следующего раза.
А в отдалении от лагеря, если идти по прямой линии от палатки Скворцовых находилась неглубокая ямка, куда мы сбрасывали овощные очистки и консервные банки. Время от времени, отпросившись с собрания, несколько майн прилетали обследовать эту ямку.
Коша решила просто так это дело майнам не спускать. Долго сидела в засаде за пологом палатки. Потом медленно, на полусогнутых лапах, касаясь земли животом, выскользнула наружу, забила хвостом из стороны в сторону и стала красться к наглым воришкам.
Сторожевая майна вовремя заметила врага, издала один резкий, скрипучий крик. Вмиг вся стая выпорхнула из-под бревна, поднялась на крыло и спикировала на кошку. Послышалась дружная птичья ругань:
- Проклятая тварь! Как ты смела! Мы тебе… Мы тебя… Бейте ее! Клюйте ее! Будет знать! Будет знать!
Бедная Коша, прижав уши, опустив хвост, змейкой скользнула в палатку, оставив снаружи разъяренных майн. А те разорялись:
- Нечего прятаться, выходи подлая кошка! Выходи на честный, открытый бой!
Я, конечно, все это перевожу с птичьего языка на великий и могучий русский язык, но, честное слово, по интонациям именно так и получалось.
Прошло минут пятнадцать. Все утихло, воинственные птицы удалились продолжать прерванное собрание, кошка осмелилась выйти наружу. И снова тревожный крик! Но Коша уселась на подстилку перед палаткой, вытянула заднюю лапу и стала ее вылизывать с независимым видом:
- Больно вы мне нужны.
- Отбой! – прокричала сторожевая майна.
Все успокоилось, вскоре птицы улетели по своим делам, сонная тишина повисла над лагерем. Кто после обеда спал, кто ушел с детьми на дальнюю купальню, а кто-то возился у костра, занятый приготовлением ужина.
Я могла бы припомнить множество случаев с нашими животными. Как крохотный пудель Артошка, очертя голову, бросался в ледяную воду, чтобы заставить выйти на берег свою хозяйку. Он смертельно боялся воды, просто так заставить его купаться было совершенно невозможно, но еще больше он боялся потерять Лиду, боялся, что она утонет. Быть может, по собачьей логике он полагал, что если ему в воде несладко, то, каково же ей, его ненаглядной! И он, бешено колотя лапками, заплывал ей за спину, толкался, скулил и брызгал в лицо.
Я могла бы рассказать, как после затяжных дождей сошла с ума от аромата влажных цветов и трав наша собака Топси. Она носилась, как угорелая, по поляне, взбегала на обрыв. Мы сначала и понять не могли, что с нею творится…
Но больше всего мне хочется рассказать о Балерине, хоть и грустная это история.
Балерина принадлежала Алику. После долгого перерыва мы стали приезжать в горы с внуком и дочерью, я уже об этом писала, и тогда познакомились с этой замечательной собакой.
Вот приехали, разместились, - палатка и муж внизу, мы с Сережей наверху во флигеле. Угомонились, огляделись и увидели во дворе Балерину.
Прямо скажем, с одного взгляда стало ясно, что жизнь у нее была в полном смысле слова собачья. Грязная, неопределенного светлого цвета шерсть после линьки местами свалялась клочьями, а худая, - ребра можно пересчитать. У нее были прекрасные стати: длинные прямые лапы, хоть и дворняжка, в меру закрученный кренделем хвост, аккуратная голова с небольшими ушами и говорящие миндалевидные глаза, обведенные полоской более темной шерсти. Глянула она на нас с Наташей и запала в душу.
Я стала выговаривать Алику:
- Что ж ты довел ее до такого состояния!
Но он пробурчал что-то неразборчивое, вроде того, что ему иной раз и самому жрать нечего, и удалился к себе в «Белый дом».
Что правда, то правда, меню лесников особым разнообразием не отличалось. Они жили годами в постоянной, привычной бедности, не ропща и не претендуя на что-либо другое. Алик, конечно, попивал, но не настолько, чтобы разорять семью, да и угощали его большей частью туристы, да время от времени спускавшийся с саргардонской шахты геолог Николай. Вот кто закладывал! Уж на что Алик, человек, можно сказать, закаленный, и тот иной раз приходил к нам и просил мужа:
- Кирилл Владимирович, пойди хоть ты, угомони этого типа! Он же сдохнет когда-нибудь с перепоя. Что за человек! А ведь голова, умница…
У Коли-геолога было горе, вот он и завивал это горе веревочкой.
- Вы должны понять, - наклонив над столом лобастую голову, Коля бил по нему кулаком, похожим на кувалду, - я эту шахту строил! Я ж там каждый болтик знаю, каждую машину лично сам привозил и устанавливал! Там же вольфрама этого!… А теперь я, вот этими самыми руками, - он разжимал кулаки и показывал широкие ладони, - должен ее демонтировать. Вы понимаете, что это значит? Де-мон-ти-ро-вать! То есть уничтожить, если называть вещи своими именами. Эх, ни черта вы не понимаете. Наливай!
- Коля, хватит, - уговаривала я, - у тебя сердце болит, сам жаловался.
Он откидывался от стола, мерил меня тяжелым взглядом.
- Женщина, удались! Знаешь, брат, - доверительно наклонялся к Кириллу, - на земле все бедствия от женщин…
Заканчивалось всегда одинаково. Алик и Кирилл брали Николая с двух сторон, отрывали от стола, вели к реке. Там погружали в холодные воды Саргардона. Коля сидел в яме по шею в воде, ворочался, как тюлень со своей круглой головой и округлыми налитыми плечами. Так он мог просидеть в реке больше часа. Потом выбирался на берег трезвый, как стеклышко, шел на кордон.
- Ребята, все в порядке. Я исчезаю.
И уезжал на шахту до следующего раза.
Но я хочу вернуться к Балерине. Мы стали ее кормить. С нами в долю вошла жена Володи-рыбака, Аня, их палатка стояла в двадцати метрах дальше нашей, вверх по Саргардону. Из всей старой компании остались к тому времени они одни. Нет, и в те последние годы в узкой долинке позади кордона толклось достаточно много народу, со многими мы дружили, но старое Акбулакское братство распалось.
Балерина расцветала на глазах. Мы вычесали ее, заставили искупаться в речке, она быстро вошла в тело, стала упитанной и гладкой, и масть ее вполне определилась. Природа окрасила Балерину в розоватый песочный цвет. Через некоторое время она и вовсе переселилась в наш лагерь, устроила себе уютное гнездо среди высохшей травы под кустом, там и спала, свернувшись клубочком. Но только днем. На ночь она уходила к Алику, сторожила «Белый дом».
Впервые за короткую жизнь Сережка столкнулся с такой большой собакой. Ведь ему она должна была казаться огромной, будучи по высоте вровень с ним, двухлетним.
Поначалу было очень страшно, когда Балерина, неслышно, как дух, подходила к нему и пыталась лизнуть в нос. Но мы убедили нашего мальчика в полной беспочвенности страхов, и он сначала смирился с присутствием собаки, а после подружился. Даже подходил к ней, спящей, садился рядом, осторожно гладил. Балерина открывала один глаз, легонько ударяла по земле хвостом, мол, вижу, узнаю, не бойся меня, маленький человечек.
Однажды Сережа осмелел, улегся рядом, и положил голову на теплый собачий живот.
Балерина ходила с нами в небольшие походы, далеко с маленьким ребенком не уйдешь, трусила следом, ловко перебирая длинными лапами, словно пританцовывая. Видно, неспроста Алик назвал ее Балериной, хоть ей и было не до танцев при его замечательном содержании.
Первые два года после нашего возвращения по Акбулаку шла Большая вода. Это было следствием великого наводнения. Нам рассказывали о нем и Алик, и Хасан Терентьевич, и Саидберды.
Зимой, где-то далеко, в верховьях реки образовался снежный затор, преградивший путь стоку. Вскоре в котловине стала накапливаться вода, образовалось озеро. Когда весной лесники вернулись на кордон, они увидели совершенно пустой Акбулак. Лишь кое-где местами по сухому руслу струились тонкие змейки воды.
Воздух медленно прогревался, так же медленно подтаивал снежный затор, а вода в образовавшемся озере набирала и набирала силу. Давление возросло, снега рухнули, следом обрушился грязевой поток и понесся по реке.
Сель шел стеной. По пути он выворачивал с корнями деревья, размывал берега, пласты глины и лесса с шумом и всплеском оседали и падали в разъяренные грязные воды; упала наша любимая арчушка на краю обрыва; срывались с места базальтовые глыбы, их протаскивало вперед до следующего порога, на глазах менялось русло реки, уничтожались места нерестилищ (вот еще почему в Акбулаке не стало рыбы), стоял невообразимый грохот. Вся наша любимая Большая поляна оказалась на метр под водой.
Сель сошел, воды очистились, но не успокоились. На подходе к поляне русло вильнуло к правому берегу, дорогу в самом низком месте смыло. Теперь здесь нельзя было проехать. Где когда-то мы спокойно гуляли, спустившись с небольшой горки, несся неудержимый поток изумрудно-зеленой воды.
Лесники, смертельно рискуя быть сбитыми с ног, проложили вдоль известковой, очень светлой, чуть тронутой желтизной скалы два больших бревна, протянули, вбив в скалу крючья, трос. За него можно было держаться, идя по бревну, и переходить дальше по наваленным камням на вновь вынырнувшую из воды дорогу. Что мы и делали, чтобы попасть на другую сторону. Идти было нетрудно, бревно было толстое и прочно зажато каменными глыбами, но все равно у меня всякий раз екало сердце, когда Наташа, посадив Сережу на шею и придерживая его за спинку, легко шла над стремниной, лишь изредка хватаясь за трос свободной рукой. Следом за нами перебиралась Балерина. Пробежав по бревну, спрыгивала на песок, шлепала по воде на солнечном мелководье, небрежно лакала воду.
Но скоро, соскучившись бежать неизвестно куда, поворачивала обратно на кордон к Алику, он прекрасно понимал, кто здесь «главный», и не ревновал нас к собаке.
А Балерина, тем временем, становилась полновластной хозяйкой всей, прилегающей к кордону территории. Неизвестно откуда взявшись и также неизвестно куда исчезая, забегали сюда чужие, совершенно посторонние псы с обрезанными по местному обычаю ушами и хвостами. Вид у них был примерно такой, какой был у Балерины до нашего вмешательства в ее жизнь. Все, как на подбор, облезлые, худые, с торчащими ребрами, и, кто знает, чего можно было от них ожидать. Но зря мы их боялись. Они ждали от нас одного, не мяса, нет, хотя бы кусок черствой лепешки. И, когда поблизости не было Балерины, успевали схватить его на лету, бросить благодарный взгляд и удрать со всех ног подальше в заросли.
Но, не дай Бог, если Балерина оказывалась поблизости. С ревом налетала она на пришельца, сбивала наземь плечом, чужак, извиваясь телом, с трудом умудрялся вскочить на ноги, готовился дать отпор, но, почуяв самку, покорно отступал, пятясь и приседая на задние лапы.
Но вскоре пришла беда, и Балерины не стало.
Было время завтрака. Мы сидели за столом (да, да, с возрастом мы стали сибаритами и обзавелись складным дачным столиком и полотняными креслами к нему), пили чай; расцветало тихое летнее утро.
Внезапно на обрыве, на крутом месте, где жили в полной безопасности суслики, показалась Балерина. Вид ее был странен. С каким-то, даже не визгом, криком, не разбирая дороги, она буквально свалилась вниз, промчалась к реке и бросилась в воду. Мы с Наташей выскочили из-за стола и побежали следом:
- Балерина! Балерина!
Где там! Собаку мгновенно закрутило, поволокло, мы даже не успели увидеть ее среди бурунов. Исчезла, будто никогда не было.
Расстроенные, в слезах, мы поднялись на кордон, чтобы все рассказать Алику. Нашли его самого и его жену в полной растерянности. По их рассказу Балерина внезапно ворвалась в дом, чуть не сбила Алика с ног, шмыгнула в заставленный сундуками угол, стала там биться и страшно визжать. Потом опрометью кинулась прочь, выбежала на край обрыва и исчезла из виду. Алик решил, что собака взбесилась.
Но она не взбесилась, бешеная собака не стала бы кидаться в воду, бедняжку укусила змея, притаившийся в копне сена за флигелем щитомордник. Балерина любила спать на том месте, мягком, прогретом солнцем.
С собаками Алику определенно не везло. На другой год он завел небольшого песика по кличке Мужик. Более несуразное и забавное существо трудно было вообразить. Взлохмаченный, с серебристым отливом по основной, черной масти, он отличался большим добродушием и чувством юмора. При встрече с вами Мужик усаживался, слегка наклонял набок голову, будто хотел сказать:
- Ну-с, посмотрим, кто ты такой.
Завершив осмотр, начинал смеяться. Известно, что собаки умеют смеяться, но этот не просто смялся, он хохотал, он умирал со смеху от одного вашего вида, обнажив мелкие острые зубы.
Почему представители человеческого рода приводили его в смешливое настроение, нам не понять. А, может, все просто, у Мужика был веселый, озорной характер.
С таким характером и забавной внешностью его не могли не украсть, и украли. Алик даже уверял, будто он знает, кто это сделал.
Честно говоря, в душе я порадовалась за Мужика. Уж больно в черном теле держал своих питомцев Алик. А щитомордника, поселившегося на кордоне, впоследствии наказали, но это уже другая история.
ЛУННЫЕ НОЧИ
Господи, кто только из великих и малых русских писателей не описывал луну! Взять хотя бы Гоголя: «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи. Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он»… Ну, и так далее, до слов: «Божественная ночь! Очаровательная ночь!»
Я помню с детства те украинские ночи. Но они так удалены от меня и по месту и по времени, что иной раз сдается, будто привиделись другой, не взрослой, не древней сегодняшней мне, а маленькой девочке с тонкими косичками, любившей мечтать при луне, хоть и не вполне сознававшей тогда, что такое есть божественная и очаровательная ночь.
Я хочу попытаться описать акбулакские лунные ночи, не вступая, Боже упаси, ни в какие соревнования с великими предшественниками, а просто, чтобы пережить еще раз то чудесное, неповторимое время.
Мы ходили встречать полную луну на Волчьи камни. Было такое место невдалеке от Большой поляны, справа от гигантской и мрачной осыпи.
У самого подножья безымянной горы, одного из отрогов Абдака, на небольшом ровном участке среди высоких, давно высохших трав, будто нарочно, были расставлены большие и малые валуны. Они так давно скатились сверху, что успели обрасти лишайником и клочьями сухого мха, воскрешаемого лишь в дождливые дни неожиданно свалившейся с неба водой. Тогда камни стояли украшенные мягкими, зелеными подушечками, на них так и хотелось прилечь, не будь они насквозь пропитаны влагой.
Лесники говорили, будто именно сюда в морозные лунные ночи спускаются со всех окрестных вершин справлять свои буйные свадьбы волки.
Представлялось, как серые звери, легкие как тень, скользят по снежному насту среди камней, как они рассаживаются по старшинству, оставляя для вожака почетное место, и начинают, чуть повизгивая от нетерпения, ждать луну, как потом смотрят на нее, не мигая, и в каждом волчьем глазу отражается блестящий холодным зеленоватым светом кружок. Она поднимается выше, выше, лунное сияние, расплескавшись, зажигает снега бриллиантовыми искрами, заставляет волков задирать к небу головы, исторгает из их глоток печальное, древнее, как эти заснеженные горы, пение.
Но сейчас стояло лето, никаких волков не было и в помине, среди камней качались высохшие головки желтых кашек, трещали неугомонные кузнечики и цикады, кое-где в самом сыром месте возле камня светился звездной капелькой светлячок. Дети с веселыми криками занимали лучшие места в партере, старались, навалившись животом и подтягиваясь, взобраться на самые высокие глыбы. Сидеть на них, шершавых от лишайника, было приятно. Даже в такой поздний час они продолжали хранить дневное тепло.
Луны еще нет. Роскошное звездное небо шевелится над нами несметным количеством покинувших Землю и каким-то неведомым способом взобравшихся на него светляков. Они перемигиваются, протягивают во все стороны короткие, но достаточно яркие лучи и не ждут никакого подвоха со стороны готовой вот-вот появиться луны. Они не знают, что стоит ей взойти над горами, большинство их исчезнет, утонув в ее торжественном гордом сиянии.
Именно это сияние, лунная заря, и появляется, прежде всего, над дальним хребтом Тереклисая. Неугомонные дети успокаиваются, Наташа сползает со своего камня, прибегает ко мне, садится рядом и прижимается к моему боку всем телом.
- Идет, - шепчет чуть слышно, чтобы не нарушать наступившую тишину.
Все умолкает окрест. Не шелохнется на дереве лист, чудится, будто и река перестает шуметь, замирают на месте кузнечики. Или это только кажется?
Между тем, на вершине далекой горы уже обозначился серебряный пузырек, край ночного светила. И сразу, на фоне его становятся видны острые зубцы скал и крохотные елки между ними, а с нашей стороны, с наших гор, начинает сползать вниз тень, открывая их взору до мельчайших подробностей, - с углублениями и выступами, темными шапками деревьев. Чудится, будто сама ночь уступает место лунному свету, спускается вниз к реке, волоча за собой шлейф темного одеяния.
Увлеченные этим зрелищем, мы не всегда успеваем поймать момент, когда луна отрывается от горы, плавно поднимается над нею и зависает, озарив ущелье.
Становится видимым Тереклисай – дрожащий серебряный поток, а над ним зыбко струится точно так же, как вода, позлащенная листва тополей.
Как завороженные, мы, не отрываясь, смотрим в ту сторону, в сторону маленькой сказочной страны, будто явившейся нам из забытого детского сна, а луна поднимается выше и выше, навечно повернутая к земле грустным, заплаканным ликом. Оттого, наверное, в лунных ночах есть что-то неуловимо печальное, и, в то же время божественное и очаровательное, и… величественное. Особенно здесь, в горах.
Но вот луна поднялась высоко, заслонила сиянием звезды и полностью озарила наше ущелье. Пятна света и тени на скалах играют тихие игры, беззвучно создают необыкновенной красоты скульптуры. Там появляется накрытая каменным шлемом голова спящего богатыря, справа от него – стройная, закутанная в покрывало фигура девушки, лицо ее повернуто в профиль и наполовину скрыто волной длинных волос. Высоко над поляной высится замок с башнями и зубчатой стеной, а прямо напротив лагеря – старичок в чалме с клюшкой.
Дети вертят головками, пытаются отыскать увиденную взрослыми фигуру. Мы подсказываем им, говоря:
- Немного правее старой арчи, вон там, смотри, острая скала. Это нос. А теперь от него веди взгляд выше: лоб, а над ним как бы шапка. Увидела? Ищи все лицо…
Через некоторое время раздается торжествующий вопль:
- Вижу! Вижу! А вон там, рядом, лев, настоящий лев!
Все отвлекаются на поиски льва, потеряв на время девушку и старика.
Вот и древние люди верили, будто горы, это окаменевшие богатыри или святые, и что когда-нибудь, настанет время, они оживут и пойдут по Земле, сотрясая ее до самого основания. Нет, уж лучше пусть спят на своих местах, пусть покоятся с миром, тем более что наутро мы никого из них не найдем, а солнечный свет заставит нас видеть совершенно иные фигуры. Хотя увиденного в лунном сиянии льва мы потом и при дневном освещении находили на том же месте.
Но случалось, луна всходила, стыдливо спрятавшись за грядой медленно плывущих сияющих облаков. Контуры ее казались размытыми, а горы покрывались как бы пятнистой шкурой.
В такие вечера мы не ходили на камни. Все население лагеря высыпало на берег. Кто успевал, усаживался в ряд на бревне, кто приносил с собой и сидел потом на перевернутом ведре, кто прикатывал небольшой камень.
На свободном от леса пространстве разжигался небольшой костер, и при свете его можно было о чем угодно говорить, можно было петь любимые песни или просто молчать, устремив на огонь неподвижный взор.
Дети поджигали в костре тонкие палочки, сбивали пламя и, оставшимся на конце угольком, чертили в темноте быстро исчезающие огненные круги и змейки.
Когда костер догорал, и на его месте оставалась груда мерцающего злата, Вадим или Саша приносили картошку и, щурясь, и отворачивая от жара лицо, бросали ее в образовавшийся по краям кострища раскаленный пепел. Через некоторое время, казавшееся вечностью, картошка поспевала, палками ее выкатывали наружу, и дети, обжигаясь и перебрасывая с руки на руку черные шарики, разламывали затвердевшую кожуру, обнажали светлую рассыпчатую мякоть, солили из принесенного кем-нибудь пакетика с солью и, радостные и счастливые ели ее, как какое-то изысканное заморское лакомство.
Однажды, в конце лета, в тот год, когда у нашего «Чебурашки» слетел маховик, мы остались одни на Большой поляне. Так получилось. Мы прибыли позже всех, и теперь все разъехались, а нам предстояло прожить еще две недели в гордом одиночестве.
Дети были в восторге, хоть и лишились друзей-приятелей, носились по поляне с дикими криками, плясали и крутились на месте, воздев к небу руки.
Все шло хорошо первые несколько дней. По вечерам мы ходили встречать луну, уже вполне округлившуюся, мы устраивали поздние ужины, и при этом не зажигали вонючую керосиновую лампу, довольствуясь лунным светом, а днем, задраив палатку, уходили, куда глаза глядят, останавливались, где хотели, словом, жили в полное удовольствие.
Внезапно погода испортилась. Все началось с легкого дуновения, с пронесшегося по всему ущелью сквозняка. Никто не обратил на него внимания, к несильным ветрам мы давно привыкли, но сейчас как-то по-особому тревожно зашумела на вершинах деревьев листва, да по дороге погнало закрутившийся столб белой пыли.
Мы посмотрели на небо и увидели, что по нему несутся с необычайной скоростью рваные облака. Вскоре его полностью затянуло. Вначале светлые, тучи стали пропитываться тяжелым свинцовым оттенком, внезапно ахнуло, как из пушки, и понесся прыгать и скакать по горам гром. Мы бросились собирать вещи, стаскивать в машину продукты и небольшой запас дров.
Ах, никогда не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня! Именно завтра мы собирались идти за сушняком, а теперь опоздали. Но и это было не самое страшное. Палатка! То была еще не наша рыжая красавица, с брезентовым пологом, не боявшаяся ни сырости, ни холода. На свою беду в тот год мы сумели обзавестись лишь внутренней, ситцевой частью стандартной палатки, совершенно не приспособленной для проливных дождей. Мы вытащили из машины свернутый в рулон кусок полиэтиленовой пленки, стали пытаться хоть как-нибудь защитить наш ненадежный маленький домик. И вовремя.
Через каких-то десять минут загрохотало со всех сторон, тяжелые капли застучали по кронам, мы только успели залезть внутрь, - на поляну упала стена дождя.
Тяжелые, мутные тучи стали опускаться все ниже, ниже, и вскоре горы скрылись за их завесой, исчезли, будто и не было. Мы оказались на равнине с ограниченным туманным обзором.
Гроза кончилась, грома укатили дальше, но дождь усилился. Теперь слышался лишь шорох тревожимых каплями листьев, да все больше набирал силу, шумел на перекатах взбаламученный Акбулак.
Но мы еще не знали, что нас ожидает. Надеялись на лучшее, думая, что гроза пролетит, ливень прекратится, и мы целые и невредимые выйдем сухими из воды.
Блажен, кто верует. Дождь, с небольшими перерывами, лил пять дней. И уехать мы не могли, маховик все еще пребывал в починке.
Промокло все. Печально обвисла над нашими головами набухшая от влаги тонкая ткань, закончились сухие дрова. Даже в машину в какую-то щель стала проникать вода и намочила макароны и хлеб. Акбулак вздулся, по нему шла коричневая от глины злая жижа. Мокрая, дрожащая собака Топси норовила выскочить наружу, металась по нашим сырым постелям, пачкала грязными лапами простыни и подушки.
В просветах между ливнями брали единственное ведро и кастрюлю, шли на родник за водой. Прыгая с камня на камень, переходили через затопленную дорогу, склонялись над темной бездной родничка (дно его при таком освещении не просматривалось). Сгоняли с его поверхности сорванную ветрами листву, набирали полное ведро ничем не замутненной воды и брели обратно домой под вновь начинающимся дождем. На подходе к поляне становился слышным плач и визг запертой в машине собаки.
На другой день мы взяли ее с собой. И вот тут наш годовалый щенок, спаниель, белоснежный, с коричневыми пятнами оттенка только что вылупившегося из кожуры каштана сошел с ума.
Топси с разбега взлетала на крутизну, кубарем скатывалась вниз, мчалась по дороге, закинув за спину кудрявые длинные уши, тормозила, проехавшись по грязи, разворачивалась и летела обратно. Внезапно остановившись, включала верхнее чутье и тревожно втягивала в себя напоенный ароматом трав, цветов, мокрой глины и прелой листвы воздух. После снова мчалась неизвестно куда, не разбирая дороги.
В первый момент мы даже встревожились. Что же это такое делается с собакой? Первым догадался Никита. Запахи! Нашу милую Топси, чуть не свели с ума запахи освеженной дождями природы.
Должна сказать, дети вели себя мужественно. Они не ныли, не жаловались. Никита был собран и деловит, терпеливо ждал, чтобы, наконец, разгорелись сырые дрова в нашем импровизированном очаге, сложенном из гладких, хорошо обточенных рекою камней. Наташа также терпеливо держала наготове казан с водой, время от времени спрашивала:
- Готово? Теперь можно ставить?
- Куда ставить? – отвечал он ей, - не видишь, что ли, огня нет. Один дым валит.
И отворачивал от едкого дыма лицо с покрасневшими глазами.
Прошла вечность. Казалось, дождь никогда не кончится. Но однажды ночью он прекратился. Я проснулась от тишины и странного освещения. Мне даже показалось, будто к поляне приближается чья-то машина, но тени от деревьев на ткани палатки были неподвижны, только чуть заметно скользили туда и обратно под легким ночным ветерком. Одеваться не пришлось, уже пятую ночь мы спали, не раздеваясь. Тихо-тихо, чтобы никого не разбудить, я поднялась, нашарила в ногах постели отсыревшие галоши, надела их на толстые шерстяные носки, подняла вверх застежку на змейке палатки и вышла наружу.
Небо очистилось. По нему, мирно, никуда не торопясь, плыли тонкие волокнистые полосы. Путаясь между ними, бежала, оставаясь на месте, начавшая убывать луна. Вся поляна была в пятнах света и тени. И, чудилось, там, куда падал свет, от земли и травы исходит чуть заметное глазу сияние. Акбулак, еще мутный, слегка присмирел; пять дней скрывавшийся за низкими облаками заречный склон теперь явился взору со всеми растущими на скалах елками, кустиками костяники и можжевельника, с львиной мордой и ожившими, напоенными влагой, цветами и травами.
В просвете между деревьями виднелся вдали зыбкий серебряный Тереклисай, легкой, тенью висел над ним темный хребет водораздела. Все кругом спало, и в то же время не спало, чутко внимая указаниям лунного света. Плавно скользили по земле тени от листвы, от стволов, от скал, где-то удлинялись, где-то укорачивались, создавая все новые и новые картины, не для кого-то, для собственного удовольствия… а, может быть, и для меня.
Жаль было будить мужа, жаль было, что он не видит этого торжествующего великолепия, но он, видно, почувствовал мое отсутствие, сам вылез наружу, заспанный и недовольный.
- Ты чего? – буркнул он.
- Иди сюда, - позвала я.
Он подошел, просыпаясь на ходу, и уже проникаясь волшебным сиянием необыкновенной ночи.
Мы стояли рядом на берегу реки и, не сговариваясь, впитывали в себя все, видимое глазу, все невольно постигаемое душой, все, незабываемое пока мы живы на этом свете.
АЙ, ЗМЕЯ!
Нет, змеи нас никогда не кусали. Приключений с пресмыкающимися было предостаточно, но все они заканчивались вполне благополучно, кроме одного, глупого и смешного случая.
Наступили новые времена, мы переехали с Большой поляны на Саргардон. Поскольку брод через реку был в пределах нашей территории, у нас была возможность видеть проходящих вверх или вниз туристов и заводить новые знакомства.
И вот однажды наблюдаем такую картину: закатав брючки выше колен, осторожно ступая стройными ножками по острым камням, реку переходят две молоденькие девчонки в брючках и коротких кофточках, пупок наружу; у одной головка беленькая, у другой не вполне черненькая, но не это главное. Главное заключается в том, что у каждой забинтована и взята на перевязь правая рука.
Следом реку переходит молодой человек приятной наружности, одетый по-походному, с несколько взлохмаченной кудрявой шевелюрой. Забыла сказать, наружность у девочек тоже была очень приятная, с такой едва заметной акбулакской сумасшедшинкой в глазах.
Естественно, их бинты нас необычайно заинтриговали, мы пригласили всю троицу в лагерь, усадили за стол, угостили чаем и медом, а за это попросили рассказать историю с полученными травмами. Дело было так.
Накануне вся троица, мирно беседуя, прогуливалась по дороге вдоль Акбулака. Девчонки восторженно пищали, требовали, чтобы молодой человек повернул голову направо и посмотрел на невысокую гору, похожую… ну, точь-в-точь, богатырский шлем, а потом повернул голову налево и обратил внимание на маленькую лужайку, сплошь поросшую нежными, похожими на метелки, колосками.
Внезапно юноша увидел на обочине крохотного, длиной с карандаш, щитомордника. Малыш недавно вылупился из яйца, блестел, словно только что умылся утренней росой, хотя само утро давно прошло.
Змееныш позволил молодому человеку приблизиться к себе исключительно вследствие детской неопытности. Его осторожно взяли за головку и подняли. Беленькая заверещала от восторга:
- Ой, какая змейка! Дай, дай подержать!
Цап, за хвостик! И молодой человек вынужден был отпустить головку, чтобы «змейка» не оказалась разорванной пополам. Грациозно изогнувшись, детеныш как-то даже неторопливо сделал легкое движение и вонзил в руку восторженной блондинки слабые детские зубки, оставив два крохотных красных пятнышка.
Вполне естественно, ужаленная, она отбросила Страшную Змею в сторону. Немедленно вмешалась брюнетка. С криком:
- Что ты делаешь! Ему же больно! - в свою очередь схватила щитомордника за хвостик.
Детеныш и тут не посрамил змеиного племени, угостил милосердную дуреху остатками яда, цапнув руку чуть выше запястья.
На крики прибежал папа беленькой девицы, велел отпустить животное и повел пострадавших к палатке лечить от змеиного укуса.
Каждой немедленно налили по стаканчику водки, затем сделали легкие надрезы на местах укусов и выдавили яд. Беленькая при этом нервно хохотала, а черненькая истерически разрыдалась. В конечном счете, все обошлось. Правда к вечеру у девчат немного распухла рука и желёзка под мышкой, а также поднялась невысокая температура, но это, как сказал папа, должно было послужить им уроком, чтобы впредь не хватали в горах, что попало.
Хихикая и перебивая друг друга, ребята поведали нам свою душераздирающую историю, мы посмеялись вместе с ними, и на том разошлись. Хотя, если говорить честно, смешного было мало. Как сказал поэт: «Бессмертна лишь глупость людская».
Зато наше первое близкое знакомство с взрослой змеей закончилось вполне благополучно. Для нас, не для нее. Это случилось в давний первый приезд, когда мы жили в солдатской палатке, взятой на прокат.
Как известно, у такой палатки нет пола. Она просторна, в ней можно встать во весь рост, но на землю приходится что-нибудь стелить, прежде чем класть матрасы.
Мы вышли из положения, нарезав охапки камыша, росшего в изобилии на Тереклисае. Получилось чисто и мягко.
В одно прекрасное утро Кирилл просыпается от какого-то странного ощущения. Что-то не так, что-то холодное касается его уха. Холодное и, как ни странно, живое.
Он слегка поворачивается, скашивает глаза, и к великому изумлению и ужасу видит возле своей головы свернувшегося в клубок огромного щитомордника. Змей сладко спит, угревшись на камышовой подстилке.
Тихо-тихо, затаив дыхание, Кирилл откатился в сторону, сел и дрожащими руками стал искать спортсменки (они тогда еще не назывались кедами). Нашел, шнуровать не стал, не до шнурков было, оглянулся на нас, спящих на другой половине палатки, отстегнул полог и выскользнул наружу, как был, в трусах и в майке.
Утро стояло прекрасное. Капельки росы сверкали на концах травинок, где-то неподалеку дятел долбил сухое дерево, рассыпал тихую дробь, на ближней горе сидело, зацепившись за нее, небольшое белое облачко, привычно шумела река на перекатах. Но Кириллу было не до красот. Он содрогался от одной мысли, что змея может проснуться и поползти в мою сторону, в сторону детей.
Первое, что он сделал, - отцепил и откинул полотнище палатки. А змей спит себе и, как говорится, в ус не дует. Кирилл, неслышно, на цыпочках добежал до соседей и разбудил Петровича. Тот, заспанный и взлохмаченный высунул наружу голову.
- Ты чего?
- Слушай, там у нас змеюка, вот такая толстая, - он показал на своей руке толщину щитомордника.
- Где?
- Да вон, возле моей подушки, я просыпаюсь, а она меня по уху хвостом гладит.
- Елки-моталки! – удивился Петрович, - ладно, идем, посмотрим, - и вылез из палатки.
Оба направились в нашу сторону, стараясь говорить шепотом, чтобы не разбудить не только лагерь, но и непрошеного гостя, совершенно позабыв, что змеи плохо слышат.
Пришли, присели на корточки и стали совещаться, что делать. Петрович предложил взять большой камень и накрыть разом весь клубок. Спустились к берегу, нашли требуемое орудие предполагаемого убийства, взяли в четыре руки, поднатужились, приподняли, понесли, сгибаясь от тяжести.
Они не бросили, нет, они осторожно положили камень на спящего щитомордника, выпрямились и стали отряхивать руки, думая, что дело сделано, опасность миновала. Глядь, из-под камня начинает выползать целая и невредимая змея, и вид у нее несколько недовольный, мол, спала, не шалила, никого не трогала, пришли какие-то негодяи, навалили камень!
Ползет она по спящему лагерю, а следом, на почтительном расстоянии, идут два мужика, и не знают, что делать. По пути Петрович успел схватить прислоненный к стволу березы топор…
На этом я остановлюсь. Дальше не интересно и жестоко, бедный щитомордник погиб.
Подлые убийцы с трудом дождались моего пробуждения, а, дождавшись, принялись, перебивая друг друга подробностями, рассказывать об утреннем приключении. Сначала я не поверила.
- Разыгрываете.
Тогда Петрович схватил меня за руку:
- Идем!
Он собирался показать обезглавленный труп, но к великому его посрамлению, и, соответственной моей радости, трупа на месте не оказалось. Они растерялись оба, стали смотреть по сторонам, ушли вперед.
Половина мертвой змеи обнаружилась далеко на дороге, и они долго стояли на месте, поражаясь ее живучести, а я разозлилась и стала ругаться:
- Зачем убили!
Тогда Петрович обиделся.
- Нет, интересная история, ее спасают, рискуют жизнью…
- Вот только преувеличивать не надо, - рубила я рукой воздух, - они не смертельно ядовитые.
- Смертельно – не смертельно, а если цапнет? Дети по лагерю бегают, народу полно, об этом подумала?
- Ладно, ребята, не будем спорить, - примирил нас Кирилл, - согласитесь, в конечном счете, больше всех рисковал я. С этим трудно было не согласиться, но убитого щитомордника все равно было жалко.
Но чаще мы успевали увидеть лишь хвост уползающей в панике змеи. Мы боялись ее, она, соответственно, боялась нас, и даже не помышляла о встрече, а, тем более, о единоборстве. Единоборствовали животные между собой. Однажды я увидела странную птичку. Зависнув в воздухе над землей на высоте, примерно, в два метра, она мелко-мелко трепетала крылышками, и никуда не улетала. И тут я разглядела, что прямо под нею, точно также, оставаясь на месте, извивается тонкая, не толще моего мизинца длинная змея-стрела. Все было точно так же, как в истории с Найдой.
Я не стала выяснять, чего добивались птичка и змея в этом поединке, и немедленно убралась с поля битвы. Заглотать такую птичку змея не могла, она была слишком тонка, но напасть на нее птичка тоже не могла, она была слишком маленькая. Возможно, она отгоняла врага от птенцов. Кто знает…
Довольно, пока, о змеях, надо передохнуть немного, хотя следующий рассказ все-таки с ними связан.
Чем же еще мы занимались долгими летними вечерами, когда темнеет рано, а до поры ложиться спать еще далеко, когда все отужинали, дежурные вымыли в реке посуду, дамы обсудили завтрашнее меню, а дети притихли, набегавшись за день, накупавшись, прокалившись на солнце.
Как правило, одевши куртки и теплые кофты, мы шли с ними на камни встречать луну, сидели, тихо переговаривались, ждали, когда она, еще невидимая за горами, поднимется выше и озарит вершины противоположных склонов.
Как правило, наши дорогие мужья на лунные бдения с нами не ходили. Оставшись в лагере полновластными хозяевами, на быструю руку соображали легкую закуску, доставали заветную, бутылку водки или, если еще оставалось, домашнего, из выращенного на собственных дачах винограда, темного, как кровь дракона, вина, усаживались вокруг врытого в землю длинного дощатого стола и…
О, ты, современный, высокообразованный читатель, как, по-твоему, о чем в середине семидесятых годов, в эпоху застывшего, анекдотического безвременья могла говорить за доброй рюмкой компания из семи-восьми инженеров-единомышленников на отдыхе в горах, среди очарованной красоты, среди дикой живой природы? О политике? Да. Говорили. Слушали «голоса». В горах они прекрасно ловились, без всяких помех. Не таясь, рассказывали анекдоты про Брежнева. Но не это главное. Спорили до хрипоты, вплоть до срыва голосовых связок, не могли угомониться далеко за полночь… О чем? О чем? Да о работе же, о, мой непонятливый, бесценный читатель.
Филологическое образование не позволяло мне вникнуть в тайну этих споров, и я даже иной раз завидовала Алисе Григорьевне и Вере, и всем остальным инженершам, когда они с полным пониманием сути дела переговаривались между собой на их языке, непонятном мне, непосвященной.
В те далекие и совершенно непостижимые с современной точки зрения времена их больше всего на свете волновало орошение Голодной Степи и, в связи с ним, какая-то загадочная «пресная подушка». Я так часто слышала это странное словосочетание, что мне однажды приснилась во сне наволочка в синенький цветочек, набитая до отказа неизвестно чем, но необычайно пресным.
- Объясни ты мне, ради Бога, о чем вы спорите? Что за «пресная подушка»? – взмолилась я однажды.
И муж мне объяснил. Попробую перевести его высоконаучную речь на общепринятый, современный русский язык.
Итак. Существовало в ту пору (сейчас тоже существует) на территории Голодной степи немалое количество нераспаханных, засоленных земель. На них ничего не сажали, потому что на них ничего не росло. Ученые мелиораторы, не только в Ташкенте, но и в Москве, долго думали, как бы оросить эти солончаки, и придумали «пресную подушку». Этим термином они обозначали пласт чистой, пригодной для роста растений «живой» воды. На определенной глубине залегания он должен был защитить плодородный слой почвы от воды «мертвой», соленой. Чтобы получить «пресную подушку», следовало промыть соли на полях и построить дренаж. Но вначале произвести точные расчеты требуемой воды для промывки, требуемого количества дренажных труб. Это, так сказать, в двух словах. На самом деле, на пути внедрения, как тогда говорили, передового метода земледелия, стояло великое множество непреодолимых трудностей.
Вот наши инженеры и спорили на тему, каким же способом их лучше всего преодолеть. Но особенно жаркие баталии происходили, когда на Большой поляне появлялся Григорий Николаевич Астахов, руководитель отдела по внедрению именно «пресной подушки».
Один вечер, а точнее сказать, ночь, особенно запомнилась в связи не столько с проблемами передовых методов орошения, сколько с Гришиными ботинками. Сразу, как приехал и поставил палатку-малютку, он стал показывать новые, специально для гор купленные, без всякого сомнения, импортные, замечательные ботинки.
- Нет, вы только посмотрите, какой каблук! А? Подошва! Кожа какая! Таким ботинкам никогда сносу не будет!
Мы стояли вокруг него и разглядывали, действительно, прекрасные ботинки на толстой рифленой подошве.
Я проснулась среди ночи, - разбудили громкие голоса. Сквозь полог палатки просвечивал тусклый свет керосиновой лампы, висевшей на горизонтально протянутой ветке боярышника над столом.
«Черти, - подумала я, - выжгут весь керосин, придется идти на кордон, клянчить у Алика солярку».
Спорщики совершенно забыли о спящем лагере, Астахов гремел великолепно поставленным басом, покрывая инфракрасным звучанием тенор Вадима Бороды. Голоса моего мужа я, как всегда, не слышала, в жаркой перебранке он не участвовал.
Не в этот раз, раньше, я спросила его:
- Ты почему молчишь, как убитый, тебя же это тоже касается.
- А мне нечего сказать, я в мелиорации пока не знаток, и даже до конца еще не решил, перейду к Гришке или не перейду.
- Но если ты не знаток, зачем ты ему тогда нужен?
- Ему нужны математические мозги, а у кого он их может найти, если не у меня?
- Ну, от скромности ты не умрешь, - посмотрела я на него с сомнением.
- На том стоим, - отозвался он.
Прошло сколько-то лет, и Кирилл Владимирович стал знатоком не только в области высшей математики, но и мелиорации. Он всегда с благодарностью вспоминал школу Астахова, но в те времена до этих высот было еще далеко.
Гришин голос гремел:
- Твои аргументы не обоснованы, а на эмоции ты меня не возьмешь…
- Мои аргументы как раз таки очень обоснованы, - старался перекричать его Борода.
- Хорошо, тогда давай по пунктам.
- Давай! Первое. Ты предлагаешь осенние промывки полей. А ты подумал, какими глазами на тебя посмотрит председатель колхоза, если ты предложишь ему зря тратить воду…
- Стоп! Во-первых, не зря, во-вторых, он должен понять, что это делается для его же блага, что с засоленного поля он ни хрена не получит.
- Хорошо, промыл. Куда ты денешь сток? Сбросишь в Сырдарью?
- Подожди, я не понял, ты, что против освоения Голодной степи?
Я оделась и выбралась из палатки, подошла к столу с остатками пиршества и пустыми бутылками.
- О, - обрадовался Гриша, - Виктория пришла. Садись с нами. Хочешь, я тебе рюмочку налью.
- Не нальешь, все выпили, - поднял и проверил на свет пустую бутылку Саша Безбородько.
- Как это, нет, у меня в палатке есть вино, я сейчас принесу.
Но я остановила его порыв.
- Не надо, Гриша, я все равно пить не буду, а вам всем пора на покой. Галдите, как ненормальные, особенно ты!
- Да, да, - согласился Гриша, - мы все спорим, спорим… а хочешь, я тебе Блока почитаю. Ты же любишь Блока, - и загудел басом, - «Русь опоясана реками и дебрями окружена»…
- Так, - появилась из темноты Вера, - Григорий Николаевич наклюкался до Блока.
- Ну, все, - огорчился Борода, - женщины пришли, закрывай лавочку.
- Вашу лавочку давно надо прикрыть, детей разбудите.
Все стали расходиться, Гриша с трудом выбрался из-за стола и, тяжело ступая нетвердыми ногами, обутыми в новые ботинки, направился в сторону симпатичного дощатого строения, уже год, как возведенного усилиями лесников подальше от лагеря, в западной оконечности Большой поляны.
На другой день я проснулась поздно. В палатку заглянула Вера и позвала:
- Вставай, идем, я тебе что-то покажу.
Вид у нее был загадочный. Я догнала ее на тропинке на полпути к упомянутому строению.
- Смотри, - показала Вера.
Я глянула под ноги и ужаснулась. Поперек тропы валялся дохлый щитомордник. Голова его была размозжена и вдавлена в землю знакомого рисунка, новеньким рифленым каблуком Гришиного ботинка.
- Слушай, - прошептала я, - это как же Астахову повезло! А если бы он наступил на хвост?
Через некоторое время добрая половина лагеря толпилась вокруг убитой змеи. На шум пришел и Гриша, взлохмаченный, заспанный. Но он был бы не он, если бы повел себя иначе.
Присел на корточки, тронул рукой щитомордника:
- Ах ты, бедолага, как же это мы с тобой умудрились? Что ж ты мне так необдуманно под ноги попался, а?
Видно, жалко ему было, что наступил он змее на голову, а не на хвост.
Так с «пресной подушки», сыгравшей в карьере моего мужа немаловажную и положительную роль, я вновь соскочила на змеиные истории. Расскажу еще одну, и на этом, пожалуй, закончим.
Дело было в поздние времена, ушли в прошлое споры при керосиновой лампе, распалось акбулакское братство, нашему внуку исполнилось два с половиной года. В то лето нас часто посещали озорные веселые грозы. Набегут тучи, стемнеет, загрохочет, покатится эхом по горам гром, блеснет неистовым светом молния, озарит на мгновение двор и стену «Белого дома», сыпанет по листве частый ливень, глядишь, и все кончилось. Небо чистое, гроза все тише, все дальше, лишь где-то над Терекли напоминает о себе недовольным ворчанием.
Однажды, во время дневной грозы, нам удалось увидеть необыкновенное чудо. Грохотало со всех сторон, но середина неба была свободна от туч. Ничем не заслоненное солнце светило, как всегда, как обычно. Внезапно под аккомпанемент громовых раскатов над дальним распадком, на высоте, повалил снег. Обычно говорят – слепой дождь, а тут – снег. Это было так красиво, так странно при свете яркого солнца. Сверкающий снег падал на скалы, но тут же испарялся, скалы курились паром, мгновенно создавая крохотные облачка. Я не выдержала и закричала:
- Наташа, Наташа, иди сюда!
- Мама, я укладываю Сережу, чего тебе?
- Иди скорей, посмотри.
- Не хочу…
- Иди, а то всю оставшуюся жизнь жалеть будешь!
Она вышла с кислой миной, но, проследив за моей рукой, ахнула и широко открыла глаза.
Снег шел еще минуты три. Потом все внезапно кончилось, будто над горами отдернули кружевную занавеску. Дочь ушла в дом, я побежала вниз, к палатке, рассказывать Кириллу про снег на горе, и дальнейшие события разворачивались без меня.
Несмотря на наши заверения в полной безопасности грома, Сережа боялся грозы. Стоило в небесах хорошенько бабахнуть, он прижимался к нам и смешно жмурился от страха.
И вот после восторженного созерцания летнего снегопада, после отгремевших громов, Наташа стала укладывать взволнованного ребенка. Она сама уже начинала задремывать в тишине и прохладе комнаты, как вдруг, не испуганным, а совершенно обыденным голосом Сережка сказал:
- Мама, там! Змея.
Я забыла рассказать, - в нашей комнате, кроме нас, проживали какие-то, поначалу неведомые, существа. Они шебаршились наверху, под потолком, на макушке мартовской печки. Были когда-то очень популярны такие печки – громоздкие черные цилиндры, выложенные изнутри кирпичом. Во флигеле они нагревались дровами и подолгу хранили тепло, но теперь стояли без надобности. Внутренняя укладка обвалилась, дымоходы не работали, да и кому бы понадобилось летом в жару топить печь.
Заслышав в первый раз шорох, мы хотели попросить у Алика мышеловку, но потом сообразили, что мыши ни за что не станут селиться под потолком. А еще через некоторое время удалось познакомиться с таинственными квартирантами.
Возле печки, в углу, стоял стол, и в тот вечер на нем лежала распечатанная пачка печенья. В комнате было темно, и вскоре стало ясно, что на столе кто-то хозяйничает. Я зажгла фонарик, и увидела очаровательного зверька.
Ослепленная ярким светом, над обгрызенным кусочком печенья сидела рыженькая лесная соня со смешными, как у Микки Мауса ушками и пушистым беличьим хвостиком. Все потихоньку сгрудились возле стола, и маленький Сережа смотрел на соню удивленными, полными восхищения, остановившимися глазами.
Вскоре выяснилось, что на печке живет не одна соня, а целый выводок – мама с пятью детьми. Со временем они осмелели. Каждый вечер на наших глазах спрыгивали на протянутую через комнату проволоку, бежали по ней капельками ртути, затем перебирались на прибитое мелкими гвоздиками к стене покрывало, боком-боком проносились по нему, прыгали на подоконник. Цепляясь коготками за сетку от мух, забирались на самый верх окна, ныряли по очереди в аккуратно ими же прогрызенную дырочку и исчезали до рассвета.
Видно, щитомордник проследил путь маленьких сонь и решил на них поохотиться. Если бы не зоркий глаз Сергея, кто знает, что бы могло случиться.
Но поначалу мама сыну не поверила.
- Где змея? Что ты выдумываешь!
- Там! – уверенно ответил он и снова показал пальчиком на окно.
И правда, на верхней части оконной рамы, вытянувшись во всю длину протянутой проволоки, заменявшей нам карниз для занавески, возлежал невероятных размеров толстый щитомордник, и как говорится, ухом не вел в сторону находившихся в комнате людей.
Наташу будто ветром сдуло с кровати. Сергея в охапку и во двор, там стала кричать:
- Алик, Алик, у нас в комнате змея!
Как всегда, не торопясь, походочкой вразвалочку, Алик направился к флигелю, захватив с собой, на всякий случай, еще двух мужиков.
Как уж там разворачивались события, неизвестно. Через некоторое время Алик появился во дворе, держа за голову пойманную змею.
В руках у Алика щитомордник обвис, едва не доставал кончиком хвоста до земли.
- Что вы с ним собираетесь делать? – опасливо глядя на пленника, спросила Наташа.
- Башку ему сейчас отрублю, и дело с концом.
- Может не надо, - попыталась она заступиться.
Но Алик не на шутку рассердился.
- Послушай, эта скотина угробила мою Балерину…
- Откуда вы знаете? На нем же не написано.
- Он, он, кто же еще! Он эту территорию облюбовал, залез в дом. Ты что, думаешь, он так и оставит вас в покое? Раз повадился, пока всех ваших сонь не выловит, не успокоится. Да заодно вас перекусает. Ты этого хочешь?
И, не долго думая, Алик привел приговор в исполнение. Балерина была отомщена. После он снял со змеи кожу, повесил ее на гвоздь сушиться, чтобы потом подарить на поясок Наташе, да только ничего из этого не вышло. Крысы ли, мыши, кто знает, только какие-то твари всю ее изгрызли, измочалили, оставив целым лишь кончик хвоста. Алик страшно огорчился, снял с гвоздя испорченную кожу, посетовал, принес Наташе остаток, но поясок из этого обрывка уже получиться не мог. Наташа повертела его в руках, повертела и выбросила.
Но удивительное и непостижимое, во всей этой истории заключалось в другом. Как, каким образом мог двухлетний Сережа распознать змею, если он до этого случая ни одного, ни живого, ни мертвого щитомордника не видел?
ДВЕ ПОЕЗДКИ В НОЯБРЕ
Как ни стремились мы на следующий год на Акбулак, ничего не вышло. Весна выдалась дождливая, в горах сходили оползни и сели, нашу дорогу, где смыло в реку, где завалило камнями и глиной. Приходилось ждать, пока ее расчистят, и проведут заново, врезаясь бульдозером в израненные склоны.
Тогда мы обратили наши взоры на Бричмуллу, и два лета подряд, пока строили дорогу, купались в Чарваке и чудесной речке Коксу.
Первый год поначалу сложился не совсем удачно. Мы сняли небольшой, поросший травой участок сада на берегу Чарвака, поставили палатку, железную печку, раздвинули складной стол, раскинули кресла, и, довольные и счастливые, приступили к отдыху.
Поутру я выходила за калитку на бережок, бросалась в голубую, теплую воду и уплывала вдаль. К хозяевам сада приходила соседка, доверительно шептала:
- Вы ей (то есть мне) скажите, может она не знает, там глубоко.
Сережка воды боялся. Мы уговаривали его искупаться, а он истошно орал:
- Аулы! Акулы! – и ни за что не хотел даже ножки мочить.
Тогда мы поставили на мелководье таз, набрали в него воды, набросали резиновых игрушек, ребенок важно погрузился на «корабль», стал плескаться и шлепать по воде ладошками, и все остались довольны.
Но злой рок подстерегал нас – в Чарваке стал стремительно повышаться уровень. Каждый день мы отползали со своим скарбом все дальше и дальше в огород, переносили палатку. Рыхлая земля плохо держала колышки, тент без конца провисал, но полая вода и тут настигала, а вслед за паводком зарядили проливные дожди. От дождей мы сбежали в Ташкент, потом вернулись и переселились в другой сад на берегу Коксу.
На следующий год дорогу так и не построили, тогда мы, уже умудренные опытом, сняли в Бричмулле комнату в гостеприимном доме у сестры Саидберды. Сережа подрос, акул он больше не боялся. Мы с Наташей привязывали его пояском к надувному кругу, плыли через затон на солнечный мыс, там загорали на траве-мураве.
Но вот наступила ташкентская золотая осень, и до нас стали докатываться благоприятные вести о состоянии дороги на Акбулак. В середине октября позвонил Саидберды, и сказал, что на кордон можно ехать.
Я и Кирилл были теперь свободные люди, пенсионеры, Наташа еще нигде не работала, заканчивала на заочном отделении филфак и растила сына, мы дружно посовещались и решили, во что бы то ни стало, ехать, не дожидаясь дождей и перемены погоды. Собрали инвентарь, загрузили автомобиль и двадцать седьмого октября покатили в горы.
Это была не первая наша осенняя поездка. Однажды в далеком восемьдесят третьем году удачно выпали свободные дни на ноябрьские праздники. Что-то там, как всегда в таких случаях перенесли с четверга на пятницу, короче говоря, набралось полных пять выходных.
Ехали на двух машинах, мы с двенадцатилетней Наташкой и Скворцовы с Таней. Никита не поехал, у него намечалась вечеринка с друзьями, школьные мероприятия – обязательное присутствие на демонстрации по случаю очередной годовщины Великой революции. Мы оставили его в гордом одиночестве, чему он бесконечно обрадовался. И то сказать, взрослый парень, шестнадцать лет.
В тот год Скворцовы обзавелись «новым» «Запорожцем», они так и различались – «горбатый» и «новый». «Новый» сверкал всеми оттенками яичного желтка, но Вадим воздержался и не стал называть машину «Антилопой-Гну», боялся прослыть эпигоном.
Выехали рано утром, хоть погода не предвещала ничего хорошего. Небо хмурилось, изредка сеялся мелкий дождик, взрослые даже хотели отменить поездку, но девчонки дружно заорали «не-е-ет!», и мы рискнули.
Перед подъемом на Чарвак остановились на совещание. Небо приобрело угрожающий свинцовый оттенок, мы долго с сомнением вглядывались в нависшие тучи, но все же решили не отступать.
И не прогадали! После перевала небо над водохранилищем очистилось, стало проглядывать солнце, все воспрянули духом и довольно скоро оказались перед подъемом на Пальтау. Тут, остановились, и, покинув водительские кресла, Вадим и Кирилл стали совещаться.
- Знаешь – сказал Вадим, - давай-ка ты – первый. Кто знает, вдруг, тебя еще выталкивать придется. «Горбатый», он такой, на него надежды нет.
Кирилл Владимирович, смиренно согласился, высадил нас, сел за руль и… тихонько, на первой скорости, слегка подпрыгивая и покачиваясь на щебне, преспокойно взял подлый крутой подъем.
- Ты смотри, - удивился Вадим, - а я был уверен, - он застрянет.
Сел в машину, завел мотор, и лихо поехал через неширокие по осеннему времени ручьи прямиком к подножию горки. А мы стояли и смотрели ему вслед. Перед подъемом он разогнался, рванул, доехал ровно до середины и заглох.
- Так я и знала, - сказала Вера, - этот хваленый «новый» никуда не годится. Говорила ему, оставь старую машину, оставь «Чебурашку» - нет…
Мы поднялись к Вадиму, дружно налегли на задок автомобиля, напрягли наши хилые мышцы, и совместными усилиями помогли осрамившемуся «новому» сдвинуться с места и продолжить движение, но теперь уже без форсу, послушно, как оно и положено в горах по неписаному уставу.
- Ты понимаешь, - оправдывался он потом перед Кириллом, - если бы я шел на первой, я бы ни за что не заглох. Эх, - похлопал он ладонью по капоту виновной машины, - подвел, брат, подвел. Где ты, моя «Чебурашечка»! Но, черт возьми, согласитесь, этот салон все же комфортнее!
Пряча усмешку, все полностью согласились с Вадимом, расселись по местам, поехали дальше, и спустя два часа прибыли на кордон.
Пустить нас во флигель Алик не имел права. В те годы геологические хоромы были еще ухоженные; как говорится, при хозяине. После долгих уговоров он открыл тесную прихожую. Мы расстелили на полу матрасы, в головах сложили недельный запас провианта, - места хватило только-только, чтобы плотно улечься на манер сардинок в консервной банке, но зато имелась крыша над головой и относительное тепло по ночам.
Один за другим потекли чудесные осенние дни. Неяркое солнце тихо сияло сквозь вереницы высоких перистых облаков. По утрам, дождавшись восхода, мы гуськом шли по тропинке на откосе (это потом там проложили бетонную лестницу) к Саргардону. Обломив у берега тонкие пластинки льда, умывались над мелководьем. Руки становились красные, как лапки у гуся, лицо начинало гореть.
После завтрака уходили в поход в сопровождении огромной собаки Хасана Терентьевича. У пса по местному обычаю, «для злости», были обрезаны уши и хвост, что его, конечно, не красило, но трудно было придумать более добродушную и покладистую зверюгу, чем этот вечно голодный, смиренный Дружок.
С деревьев на старую, пожухлую траву медленно падали пожелтелые, блеклые листья. И сама осень в горах была неяркой, застенчивой. Нет, на кордоне пламенели багрянцем заросли вишняка, ярко алели виноградные листья, сквозь них виднелись на лозах так и не вызревшие мелкие кисточки кишмиша, но на всем остальном пространстве ущелья ярких цветов не было. Лишь арчовники, освеженные первыми осенними дождиками, зеленели и важно шевелили мохнатыми ветвями.
Вера назвала эту осень серебряной, и с нею немедленно согласились.
Шли по дороге, а затем по тропе к водопаду «Слезки». Там девочки подставляли под сияющую хрусталем капель смеющиеся мордашки, пытались напиться, потом отскакивали в сторону с мокрыми руками и щеками, весело хохотали. Их заставляли вытереться чьим-то носовым платком, и просили не подходить так близко к воде, чтобы не промочить ноги.
В полдень находили уютное место, где-нибудь на припеке, под открытым небом; располагались на отдых, съедали принесенные с собой бутерброды и разогретую на костерке тушенку. Дружок терпеливо ждал, едва заметно подрагивал от нетерпения ляжками. Получив порцию хлеба, смоченного ароматным мясным соком, вежливо отходил в сторону, ложился в сухую траву и, не торопясь, съедал все до крошки.
В легких сумерках возвращались на кордон, готовили на очаге ужин, после, зажигали висевшую над столом во дворе керосиновую лампу, отчего пространство мгновенно сужалось, горы переставали быть видимыми, а наши лица в этом освещении начинали казаться удивительным образом помолодевшими, хоть и лет нам в ту пору, если хорошенько вдуматься, было совсем немного.
Но я собиралась рассказать совсем о другом времени, о последней осенней поездке на Акбулак.
Мы ехали и восхищались новой дорогой. Она стала шире, не так страшно было смотреть вниз, на Чаткал, по-осеннему мирный. Он тихо нес вдаль изумрудные воды, медленно кружил в водоворотах нападавшие желтые листья.
Уже предвкушалась встреча с любимыми местами, уже мы начали ждать, когда появится вдали Большой шлем, как вдруг, на подступах к Караарче, буквально на ровном месте, машина стала дергаться и остановилась.
Было три часа дня. Мы вышли из «Москвича». Кирилл Владимирович открыл капот и погрузился в мотор, а Наташа повела сына к реке бросать в воду камешки. Потом мы терпеливо ждали, когда дадут команду садиться, но команды все не было и не было. Солнце давно ушло, стало смеркаться. Я сказала:
- Вот что, скоро стемнеет, поэтому предлагаю разжечь костер, подогреть ужин и ночевать здесь, на месте.
- И что же, палатку ставить? – с сомнением огляделся Кирилл, - да тут и негде, одни камни.
У меня был готов ответ на все.
- Зачем, палатку, переночуем в машине.
Надо сказать, мой заботливый муж уже давно сумел так оборудовать салон «Москвича», что ночлег в нем на случай, если приедут гости, и в палатке все не поместятся, был не просто возможным, но даже комфортным. Для этого раскладывались сиденья, между ними клались выпиленные нужного размера доски, на них специальный, узкий тюфячок, а уже сверху матрасы и одеяла. Получалось мягкое ровное спальное место на троих, поднятое довольно высоко, вровень с окнами. Наружу торчал лишь рычаг переключения скоростей, да над сиденьем водителя нависал руль.
Мы оборудовали ночлег, потом сложили на скорую руку очаг, развели огонь и поставили на камни казан с заранее приготовленной едой. Вскоре по всей округе разлился аромат осенних, ярко-алых фаршированных перцев.
Поужинали, остатки убрали в багажник, посидели у костра, Сереже это доставило особую радость. Наташа научила его поджигать конец тонкой палочки, потом сбивать огонек и размахивать ею, вычерчивая в темноте красным угольком круги, зигзаги и змейки. Наконец он угомонился, и мы стали укладываться.
Не такой длинной, как остальные, поперечное место головой под руль досталось мне. Наташа и Кирилл с Сережкой в середине, улеглись вдоль сидений, свернувшись калачиком каждый. Я не учла, что со временем им захочется распрямиться и вытянуть затекшие ноги.
Проснулась в ночи, и в первую минуту ничего не могла понять. Каким-то образом, скрученная в штопор, согнутая пополам, я оказалась втиснутой в узкое пространство под бардачком, наполовину висящая над полом. Само собой разумеется, я стала пытаться принять более адекватное положение, само собой разумеется, у меня ничего не получилось. Я плотно застряла кормой.
Тогда, вывернув шею, разглядела в полумраке дверной подлокотник, схватилась за него, подтянулась и выдернула себя, как пробку из бутылки, на волю. Села, успев при этом крепко треснуться головой о руль, и тихо-тихо, чтобы никого не разбудить, открыла дверь и выползла ногами вперед наружу.
В первый миг показалось, что уже светает, но я ошиблась. В середине неба, прямо над головой, ярко светила едва начавшая убывать луна. Горы, равнодушные к нашему присутствию подставляли бока лунному сиянию, шла таинственная игра света и тени, тихо журчала по камням упавшая вода в Акбулаке. Настолько тихо, что уже невозможно было услышать торжественные хоралы, звучавшие в ушах в пору Большой воды.
Эти хоралы не были слуховой галлюцинацией, их слышали все, видно их порождал несмолкающий шум реки. Сперва возникала монотонная, тусклая мелодия, потом - разноголосое пение без слов, чудились низкие мужские голоса, высокие женские.
В иные ночи на Саргардоне, в стороне серых скал на противоположном берегу у слияния с Акбулаком, слышалось нежное сопрано. Странно и тревожно звучал одинокий голос на фоне низко звучавшего хора. Казалось, то летает по ночам над рекой, мечется и не находит покоя чья-то одинокая душа.
Вылезая из машины, я схватила лежавшую под головой куртку, оделась, и решила провести остаток ночи, сидя на камне и созерцая луну, но внезапно почувствовала, что нахожусь здесь не одна. С ближней осыпи, сверху, вдруг посыпались мелкие камешки и послышались чьи-то грузные шаги. В какой-то момент показалось, будто я вижу темный силуэт. Не знаю, кто это был: горный козел, медведь или одичавшая сторожевая собака, - меня словно ветром сдуло. Не помню, как очутилась в машине, и стала пытаться потихоньку притянуть и закрыть дверь. Но она никак не хотела закрываться.
- Да хлопни ты ею, все равно всех разбудила, - проворчал сонный Кирилл.
- А вы подберите свои конечности, совершенно спать невозможно, - огрызнулась я.
Все проснулись, когда совсем рассвело, и над горами зарозовел восток. Как ни странно, мы хорошо выспались, дружно побежали умываться, а потом приготовили завтрак. Все это без суеты, потому что торопиться было некуда – целый день впереди. Но не успел Кирилл снова открыть капот и погрузиться в работу по выявлению причин нашей аварии, как вдали послышался рокот могучего двигателя, и вскоре возле нас остановился грузовик. В кабине сидел Алик, в кузове Ирали и еще какие-то знакомые и незнакомые люди. Все восторженно кричали, приветствуя нас.
После недолгого совещания Кирилла Владимировича уговорили прицепить «Москвича» на буксир и таким образом доставить на кордон в целости и сохранности. Кирилл сопротивлялся, уверял, что поломка не серьезная, что он уже знает, в чем там причина, и мы благополучно доберемся сами, но его никто не хотел слушать. Меня, Наташу и Сергея затащили в кузов, где мы удобно расселись на запасных покрышках. Нашелся трос, машину привязали, проверили узлы. Кирилл Владимирович сел за руль, грузовик дернулся и рванул вперед.
Плевать он хотел на всякие там Мокрые подъемы, где, как правило, легковые машины буксовали среди ручейков на мелкой гальке и сползали назад, всякий раз рискуя оказаться в реке.
Мы неслись под сенью прибрежного леса, по команде пригибали головы под вытянутыми над дорогой ветками, и душа моя наслаждалась сумасшедшей и совершенно безопасной ездой.
Но вот мой взор упал на идущую следом машину. Было совершенно ясно, что Кириллу Владимировичу далеко не так хорошо, как всем остальным. Мотаясь, как консервная банка, привязанная к хвосту собаки, наш несчастный автомобиль мчался, не разбирая дороги, где там камень, где что. Кирилл что-то кричал, сигналил, но ни голоса, ни сигнала никто не слышал.
- Ирали, - сказала я, - по-моему, с Кириллом Владимировичем что-то не так.
Ирали посмотрел, поднялся, перешагнул через какие-то мешки и стал стучать по крыше кабины. Грузовик остановился, «Москвич» по инерции чуть не врезался в его задние колеса.
Оба шофера стали совещаться, размахивать руками. Появилась дополнительная веревка, веревку стали привязывать к тросу, потом каждый побежал к своему месту, моторы взревели, веселая гонка продолжилась, и тут же кончилась. Как и следовало ожидать, веревка оборвалась, «Москвич» остался далеко позади.
Все плохое, как и хорошее, когда-нибудь кончается. Через полчаса мы сидели у стола во дворе, а грузовик умчался дальше, за сеном в верховья Саргардона. Кирилл никак не мог придти в себя после поездки на коротком поводке, вздыхал, мотал головой, вскакивал и, уже в который раз, бежал разглядывать вмятину на днище автомобиля.
Палатку ставить не стали, по ночам было довольно холодно. Бесхозный флигель окончательно пришел в упадок. Мы вычистили большую комнату, закрыли фанерой выбитое окно, другое затянули пленкой, поставили по углам имевшиеся в изобилии железные кровати, но главное, здесь находилась печка-буржуйка с заржавленным рукавом трубы, и печку можно было топить.
На середину комнаты выдвинули старый колченогий стол, застелили пестрой ситцевой тряпочкой, а на середину его Наташа торжественно водрузила привезенный бронзовый канделябр с четырьмя белыми свечками.
Дома было много споров, когда я предложила взять его с собой, надо мной смеялись и говорили, что в горах не хватает лишь бронзовых канделябров, но теперь все признали мою правоту. Кирилл ходил вокруг стола, и никак не мог успокоиться:
- А вы знаете, хорошо.
Долгими осенними вечерами, при свечах, резались вчетвером в подкидного дурака, и Сережка, быстро усвоивший правила игры, довольно часто кого-нибудь из нас обыгрывал.
В печке пылал огонь, уютно посвистывал старенький, покрытый бархатной сажей чайник, с улицы к мутному окошку прижималась тьма. Стоило выйти на разбитое, с проваленными досками крыльцо, становилось видно необъятное небо с ясными, словно умытыми, неестественно крупными звездами.
В первое время, кроме нас с Аликом и Хасаном Терентьевичем, на кордоне никого не было. Позже появился народ. У Хасана поселилась молодая пара, смутно знакомая по прежним годам, а еще через день появились две женщины, мать и дочь. Они доехали на бричмуллинском автобусе до развилки, а оставшиеся восемнадцать километров протопали налегке пешком.
Дочь, девушка лет двадцати, вела себя тихо и скромно, и почему-то все время смотрела в сторону, отвернувшись от восторженной мамаши. Зато Евгения Аристарховна (вот ведь помню) разливалась соловьем.
- Боже мой! Горы! Нет, вы посмотрите, какая красота! Какие краски! Вон молодая травка пробилась, - это же изумруд! Чистый изумруд! А это что за деревья? Неужели обыкновенная вишня? Смотрите, листва горит! Форменным образом, горит! «В багрец и золото одетые леса»… помните? Нет, но все-таки – горы! Горы неповторимы! Величавые! Мощные! А воздух! Боже мой, какой воздух! Красота… Воздух… Чакры… Чакры… Шамбала…
Надо сказать, у акбулакского братства не было привычки восторгаться горами вслух. В проявлениях чувств мы старались быть сдержанными. Да, я вижу, вижу все, что меня окружает, но и остальные тоже видят. А раз видят, зачем говорить. Ведь если бы мы не чувствовали горную красоту, никто бы сюда не ездил.
Помню, в нашу первую осеннюю вылазку на двух «Запорожцах», «горбатом» и «новом», в прощальном походе на Тереклисай, Вера откинулась спиной в сухую траву, заложила руки за голову и из глубины души исторгла крик:
- Люди, какая же все-таки красота кругом!
- Вот только давайте обойдемся без восторженных воплей, - немедленно отозвался Вадим.
- Почему? – приподнялась на локте Вера, - еще Достоевский сказал: «Красота и любовь спасут мир».
- Это сказал не Достоевский, - отпарировал ее строгий супруг и хлебнул из кружки глоток чая.
- Как, не Достоевский! – возмутилась Вера.
- Это сказал князь Мышкин, а он – идиот. Да, к тому же, ни красота, ни любовь в романе никого не спасли: Настасью Филипповну зарезали, а бедный князь окончательно сбрендил.
Вера рассердилась, встала и ушла к реке, а я так и не поняла, всерьез говорил Вадим или по привычке подначивал романтически настроенную жену.
Как вскоре выяснилось, Евгения Аристарховна была последовательной ученицей некоего гуру, принесла с собой в тощей сумке, больше похожей на торбу, брошюру, где было вкратце изложено единственно правильное учение, и стала настойчиво рекомендовать всем, не сходя с места, немедленно обратиться в новую веру. Спасение души гарантировалось на все сто процентов, а об очищении чакр и ауры даже и говорить не приходилось.
Все полистали брошюру, полюбовались портретом великого учителя. На фотографии был изображен солидный дядя в черной хламиде, с сытой физиономией, при снежно-белой, окладистой бороде и длинных, свисающих вниз усах. Книжечку мы вернули, Евгения Аристарховна бережно опустила ее на дно торбы, а вместо нее извлекла странный, невиданный нами доселе предмет. Это был небольшой, размером с блюдце, потемневший бронзовый диск на крученой тесьме, продетой через его середину, - как сразу выяснилось, настоящий тибетский колокольчик. Стоило легонько ударить по нему специальным билом, - раздавался высокий, ясный, долго не умолкавший, очень приятный звук: ди-и-инь!
Но это не все. Евгения Аристарховна сказала, что звук «динь», исторгаемый из колокольчика, не является его (колокольчика) окончательной эманацией, что постигший учение, последовательный адепт, должен научиться извлекать из него звук «ом-м-м-м». Наступит ли тогда конец света или эра всеобщего благоденствия, я уже не помню, помню лишь, что Кирилл Владимирович несказанно удивился.
- Послушайте, Евгения Аристарховна, - возмутился он, - это же совершенно невозможно! Как может ваш колокольчик сказать «ом-м-м», если он говорит «ди-и-инь»? Это же противоречит элементарным законам физики!
- Дались вам законы физики, - лукаво склонила скосила глаза Евгения Аристарховна, - а полная луна у нас на что?
Кирилл Владимирович воздел руки и, молча, удалился в дом, больше не желая ничего выяснять.
Однако, как стало понятно чуть позже, выяснять было что, но Евгения Аристарховна самое главное оставила почему-то на вторую очередь, на потом. Уже под вечер мы догадались, что ночевать им негде, а из провианта они принесли с собой лишь один пакет макарон.
С ночлегом обошлось. Случайно заглянул на кордон хозяин дальней пасеки Махмуд и пообещал устроить гостей у себя в вагончике.
Наутро Махмуд пришел к нам со своей красавицей дочкой, девочкой лет семи. Я часто думала, сознает малышка свою силу или не сознает? Она была молчалива, легко смущалась, заливалась смуглым румянцем и закрывала бездонные очи завесой атласных ресниц. Алик рассуждал проще, когда речь заходила о девочке.
- Погодите, она вырастет, так из-за нее все парни в Бричмулле передерутся.
Но до этого было еще далеко.
Махмуд, предварительно обернувшись и понизив на всякий случай голос, доверительно говорил:
- Слушайте, этот женщина совсем сумашечая. Всю ночь туда-сюда по дороге, туда-сюда с каким-то звонком. Только засыпаем, а она - динь, динь, динь!
- Ха, - развеселился Кирилл, - стало быть, звук «ом» извлечь из колокольчика не удалось.
- Так ведь луна не полная, - расхохоталась Наташа, - вот если бы полнолуние, - тогда другое дело.
Мы стали смеяться и сочувствовать Махмуду, но он ничего не понял, пожал плечами и ушел к Хасану. Делиться впечатлениями.
Вскоре пожаловали махмудовы постояльцы, попросили разрешения воспользоваться нашей печкой, чтобы сварить на завтрак принесенные с собой макароны. Мы посмеялись и взяли неопытных туристок на котловое довольствие. За завтраком я спросила:
- Евгения Аристарховна, а вы заметили, какая у Махмуда дочь красавица?
- Эта маленькая замарашка? – рассеянно отозвалась та и отпила чай из пиалы, - нет, не обратила внимания.
Ближе к обеду Хасан Терентьевич принес небывалых размеров друзу грибов вешенок. Вешенки были чистые, хрупкие и вкусно пахли, я предложила приготовить жареные грибы с картошкой, но на всех одной друзы было мало. Хасан подумал и сказал, что сходит, принесет еще. Однако с собой, сколько мы не предлагали, никого не взял, быстро-быстро побежал через двор и исчез за откосом. Алик проводил его понимающим взглядом.
- Я ж говорил, все знает, а ни за что не скажет – где. Вот увидите, он еще больше грибов принесет.
Все кинулись чистить картошку, дождались Хасана Терентьевича, развели в очаге огонь. Обед получился роскошный, даже невиданный по акбулакским меркам. Довольные и сытые мы сидели во дворе у стола, вспоминали прошлые годы, и поначалу не заметили, что мать и дочь начали ссориться.
- Мне надоели твои горы, понимаешь, надоели! – шипела доченька, - я их ненавижу. Ненавижу! Ненавижу! Ты можешь это понять? Я хочу домой, в Ташкент. У меня завтра курсовая работа, а твои восторги у меня уже вот где сидят, - показывала она на горло.
Мать тихо оправдывалась и уговаривала остаться еще на один день, но дочь была непреклонна. Тогда Евгения Аристарховна стала бегать за Аликом и пытать его, не будет ли сегодня попутной машины до Бричмуллы.
Под вечер машина пришла, но она доверху была нагружена сеном, и пассажиров взять не могла. Тогда наши дамочки подхватились, и собрались идти в Бричмуллу пешком.
Наступил вечер, но они настояли на своем, несмотря на все запугивания и уговоры. Мало ли, что могло случиться ночью в горах, а идти им предстояло больше шести часов. По нашим расчетам выбраться на асфальт они могли не раньше полуночи, а ждать рейсовый автобус в такую пору было совершенно бессмысленно.
Все-таки они ушли, недовольные всем миром и друг другом. Впереди рассерженная и весьма решительно настроенная дочь, мама сзади, отставая на несколько метров. В последний момент мне показалось, что она на ходу роется в сумке, ищет, находит и достает злополучный, философски настроенный колокольчик.
ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ
О, это была вечная и трудно реализуемая проблема. Из всего привезенного провианта хлеб и сухари заканчивались в первую очередь. Даже сэкономить не удавалось. В горном климате хлеб быстро плесневел, а сухари пропитывались сыростью и становились невкусными.
В давние времена было просто - кто-нибудь собирался с духом, садился за руль и отправлялся в путь за прекрасным бричмуллинским хлебом. Дождавшись посланца, мы разбирали и несли в палатки высокие, пышные караваи, а дети тут же окружали родителей и с криками: «Мне, мне корочку!» - мгновенно растаскивали одну буханку. Вторую пытались растянуть на два дня, но и это не всегда удавалось, такой уж он был вкусный этот незабываемый бричмуллинский хлеб.
Прошли годы. В Бричмулле почему-то упразднили собственную пекарню, а привозного хлеба только-только хватало на местных жителей. Вот и приходилось выкручиваться, заказывать, ждать оказии, что было крайне неудобно и приводило к лишней головной боли.
В год обнаруженного в нашей комнате щитомордника, я уже не помню, по какой причине, Кириллу Владимировичу понадобилось съездить на пару дней в Ташкент. Мы с Наташей и Сергеем остались одни, и, как вскоре выяснилось, с последней четвертушкой буханки хлеба, черствой и совершенно невкусной.
Хлебная зависимость тяготила не только нас, но и ближайших соседей, Володю-рыбака и Аню. Изредка их выручали, когда приезжал сын Максим, непривычно взрослый, женатый, страшно гордый маленькой дочкой.
Сережа покровительствовал малышке, брал ее за руку, вел к ближнему песчаному островку, белому, сверкающему пластинками слюды…
Этими «золотыми» крупинками когда-то давным-давно Гриша Астахов легко «купил» нашего Никиту. Тот прибежал почему-то именно к нему, потащил на берег. Там они сели на корточки, стали водить руками по мокрому песку.
- Дядя Гриша, что это?
Не моргнув глазом, сохраняя серьезное выражение на лице, Григорий Николаевич спокойно пожал плечами и равнодушно пробасил:
- Золото.
- А можно добыть? – загорелся наш сын.
- Добыть? – задумался Гриша, - наверно, можно, только для этого нужно иметь специальное снаряжение.
Все следующее утро Никита переделывал заржавленную жестянку из-под селедки в лоток для промывки песка. А Гриша продолжал разыгрывать.
- Ты смотри, осторожнее, у нас контрабандная добыча золота запрещена по закону.
- Я подальше уйду, - обещал новый старатель, - никто не увидит.
После обеда он отправился в Бухту святой Алисы, и пробыл там до вечера. Вернулся в лагерь обиженный, забился в палатку и даже ужинать не пошел. Пришлось Григорию Николаевичу лезть к нему и вести успокоительные переговоры. На чем уж они договорились, не знаю, только вскоре из палатки послышался смех, мир был восстановлен, хоть и не получилось старателя из моего сына по очень простой причине, - не все золото, что блестит.
Сережу золотые прииски еще не волновали, ему нравилось играть с хорошенькой девочкой, едва-едва начавшей говорить. Но им, по-моему, и слова не очень были нужны. Как-то они общались, шевеля невидимыми усиками антеннами, дружно набирали в ведерко песок, а потом высыпали в кучу и втыкали в нее коротко сорванные желтенькие головки пижмы.
Бабушки умильно поглядывали на внуков, но при этом не переставали ломать голову, как же разрешить трудную и почти невыполнимую задачу с хлебом.
Решение пришло совершенно неожиданно. А что, если попытаться печь хлеб самим! Мука есть, яйца еще не кончились, молочный порошок имеется в избытке. Впрочем, за молоком можно сходить на пасеку к Махмуду, вернее к его жене, державшей холеную, белую в черных пятнах корову.
- Нет, - стала спорить со мной Аня, - никаких яиц, никакого молока для выпечки хлеба не нужно. Мука, соль, дрожжи, вода. Все! И получится прекрасный хлеб.
- Да только где его выпекать, - уныло сказала я, и на этом мы расстались.
Она ушла к своей палатке, а я продолжала думать о хлебе насущном, а главное, в чем же его испечь.
А что, если попробовать сложить из камней подобие духовки, протопить ее дровами, дождаться, пока дрова не превратятся в угли, на них поставить казан с тестом, и, пожалуйста, хлеб готов! Я прошлась по берегу в поисках камней нужной формы. Уж чего-чего, а этого материала здесь было в избытке.
Наверное, в тот момент во мне проснулось что-то от первобытной женщины, какое-то наитие на меня снизошло, потому что все стало получаться именно так, как я задумала.
Наша «кухня» располагалась на двух больших валунах, огонь мы разводили в удобной щели между ними, при этом оставалось много свободного места, куда можно было ставить кастрюли, казан и другую кухонную утварь. Вот к боку крайнего валуна я и решила пристроить новое сооружение.
Две стенки удалось возвести сразу. Долго искала плоский камень для крышки, и никак не могла подобрать ничего подходящего к моему замыслу. То он оказывался узким и не мог закрыть щели, то слишком тяжелым, стенки не выдерживали и разваливались.
Но, как говорится, терпение и труд все перетрут, - духовочка у меня получилась на славу. Я не поленилась, поднялась к Хасану Терентьевичу, рассказала о своем замысле, к чему он отнесся довольно скептически, но маленький казан помог отыскать в захламленном сарайчике, среди множества старых чайников, дырявых кастрюль и прочего, неизвестно для чего хранимого барахла.
Сопровождаемая строгим наказом не забыть и своевременно возвратить казан, на крыльях вдохновения я прилетела обратно в лагерь и стала месить тесто. Я не послушала Аню, развела порошковое молоко (некогда было бежать за два километра к Махмуду), не пожалела дефицитного яйца, замочила сухие дрожжи, словом, сделала все, что полагается в таких случаях.
Приготовленный, хорошо вымешанный колобок, бережно положила в смазанный маслом казан, накрыла крышкой и поставила на солнышко, на теплые камни всходить. Теперь надо было заняться огнем. Перед отъездом в Ташкент Кирилл заготовил достаточное количество дров, я зарядила ими «духовку», - вниз скомканную бумажку, сверху тонкие палочки, затем маленькие чурочки, следом чурочки большие, и, помолившись горным богам, все это незамедлительно подожгла.
С первого раза не сладилось, пришлось перекладывать дрова заново и не брать крупные чурки. Вскоре изо всех щелей моего сооружения повалил белый дым. Он расползался по откосу, путался в листве боярышника и единственного на всю округу клена. Мы страшно гордились этим кленом и населявшей его густую крону парой мухоловок, удивительно симпатичных сереньких птичек, работящих и хлопотливых.
Мухоловки сердито пискнули и выпорхнули из листвы. Но сейчас мне было не до них. Я схватила картонку, оторванную от коробки из-под макарон, наклонилась и стала усердно махать перед устьем «духовки», чтобы дать огню доступ воздуха. Вскоре пламя охватило всю укладку, дым прекратился, я села на камешек и стала одну за другой подкладывать мелко нарубленные ветки. Кирилл потом ругался, я спалила ему весь запас драгоценной растопки.
Через некоторое время, мне оно показалось вечностью, дрова прогорели, на дне образовалась кучка перемигивающихся углей. Но ставить тесто на выпечку было еще рано. Я это чувствовала. А оно, тем временем, подошло и грозило вылезти из тесной посудины.
Тогда я стала выкатывать наружу закопченной палкой не прогоревшие до конца головешки, дробить оставшиеся угли и сгребать их ближе к краям, так, чтобы на дне осталось совсем небольшое количество жара.
Наступил ответственный момент. Я волновалась, как на экзамене в школе. Тихо-тихо, чтобы не опало подошедшее тесто, сняла с теплого валуна казан и, затаив дыхание, вдвинула его внутрь «духовки». Закрыла устье заранее припасенным плоским камнем, бережно прислонив его к стенкам моего первобытного сооружения. Потом выпрямилась, потерла затекшие ноги и засекла время. Теперь оставалось ждать.
Без лишней скромности могу сказать, что я отношу себя к разряду женщин, умеющих управляться с выпечкой. И муж, и дети, а теперь и внуки сметают мои пироги до крошки в одно мгновение, да и гости, если случается праздник, тоже едят и хвалят, а я скромно опускаю глаза и прячу довольную улыбку. Но теперь…
С одной стороны я боялась, хватит ли жара, чтобы тесто, как следует, пропеклось, и не оказалось сырым в середине. С другой – жар мог оказаться слишком сильным, и тогда мой хлеб превратился бы в уголь, никому не нужный, горелый ком.
Прошло двадцать минут. Сердце не переставало биться с удвоенной скоростью. Внезапно, да, да, это случилось совсем неожиданно, по лагерю, по его окрестностям, над рекой, а потом и над ближними горами поплыл ни с чем не сравнимый, упоительный дух выпекаемого на жару сдобного хлеба.
Из норки на склоне выскочил суслик, встал столбиком, принюхиваясь, а потом удивленно свистнул. На клен возвратились мухоловки, стали оживленно вертеться на ветках и переговариваться взволнованными голосами. На горе за уступом, невидимое снизу, перестало срывать траву и насторожилось стадо горных козлов, залаяли собаки на дальней пасеке. Кто знает, может, и проходивший в отдалении толстый мохнатый мишка поднялся на задние лапы, принюхался и, наверное, в первый раз в жизни пожалел, что не довелось ему родиться человеком, что не достанется ему ни самой малой корочки свежего акбулакского хлеба.
Но торжествовать победу было рано. Я сидела с часами в руке и терпеливо ждала обозначенного времени, положенных сорока пяти минут. Спустились по лестнице, и пришли в лагерь после дневного сна Наташа с Сережкой, крикнул сверху взволнованный Ирали:
- Эй, чем это у вас так вкусно пахнет?
Прибежала Аня, пришли художники, жившие неподалеку от нас в трех новейших конструкций палатках, подоспел Володя-рыбак, без толку проходивший весь день с удочкой. Всех я усаживала за стол, просила Наташу разливать чай, а сама не спускала глаз с печки.
Истекли положенные сорок пять минут. Я отвалила камень и заглянула внутрь «духовки». В полутьме было видно, что над краем казанка возвышается румяная, нисколько не пригорелая верхняя корочка. Тогда схватив тряпку, я вытащила казан наружу и поставила сверху на камень. Аня прошептала:
- Подожди вынимать. Пусть слегка отпотеет.
Подождали. Но нетерпение всех было так велико, что я не выдержала, взяла длинный нож и стала потихоньку отделять бока каравая от стенок посудины. Потом накрыла его чистым кухонным полотенцем, перевернула и почувствовала, как он отвалился от дна, оставшись в моей руке, обжигая даже сквозь плотную ткань.
- Наташа, сними, сними! – закричала я.
Но она растерялась и не поняла, что надо делать. Аня вскочила; первой попавшейся под руку еще одной тряпкой подняла казан, унесла его прочь, а у меня в руке остался небольшой каравай прекрасно выпеченного золотистого хлеба. Я сразу почувствовала, что он пропекся, он был легкий, почти невесомый, а так не бывает, если внутри осталось сырое тесто. Я ловко перевернула его и бережно уложила на подставленную кем-то доску. Аня набрала из ведра пригоршни холодной воды, взбрызнула макушку и накрыла хлеб полотенцем. Теперь надо было ждать, чтобы он хоть немного остыл.
Все сидели у стола, говорили о чем угодно, только не о предстоящем пиршестве, а тем временем, все прибывал и прибывал народ. Не выдержал и спустился сверху Ирали, пришел, будто случайно, никуда не торопясь, Алик.
- Чем это у вас так вкусно пахнет?
Все засмеялись, Аня сняла с каравая полотенце и сказала:
- Хватит уже, Виктория, не томи.
Что оставалось делать! Я взяла самый острый нож и бережно отрезала первый ломоть. Мякиш был ноздреват и упруг, дышал теплом и уютом, и, нужно ли говорить, что в первую очередь хлеб получили дети. Остальные засмеялись, захлопали и дружно закричали «ура». И горы эхом подхватили нашу радость, понесли наш крик над скалами, передавая его с одного распадка на другой. Суслик испуганно пискнул и скрылся в норке, мухоловки выпорхнули из клена и улетели, горные козлы, если они здесь были, вернулись к прерванному занятию, стали пастись, срывать желтыми зубами траву, а медведь на далекой горе опустился на лапы, вздохнул и полез в заросли ежевики за спелыми сизыми ягодами.
Немого позже, когда от каравая почти ничего не осталось, я взяла последний кусок, остывший казан и понесла наверх Хасану Терентьевичу. Он долго и удивленно смотрел на белый пушистый хлеб, держал его в смуглой руке, а потом посмотрел мне в глаза и сказал:
- Наверно, тебя Бог любит!
Приехал из Ташкента Кирилл Владимирович и, первым делом, раскритиковал мою постройку. Я даже обиделась.
- Вот так всегда, стоит женщине что-то толковое сделать, как тут же налетает его высокопревосходительство, господин мужчина, - я расшаркалась, - и все летит в тартарары.
- Мама, успокойся, - уговаривал Кирилл, - я ничего не имею против твоей печки, но, согласись, большой казан сюда не полезет. А в маленьком много не напечешь.
Стало ясно, что в ближайшие три дня свежего хлеба мы не увидим.
Кирилл Владимирович трудился самозабвенно. Мы с Наташей ходили вокруг него на цыпочках, а он все равно выискивал повод к чему-нибудь придраться, и шипел на Сергея, чтобы тот не болтался под ногами.
Тогда я налила в ведерко воды, дала ребенку чистую тряпочку и отправила мыть камни. Это было любимое занятие нашего мальчика. Серьезно, сосредоточенно, он мочил в ведре тряпку и тщательно обтирал булыги по сторонам тропинки, ведущей к нашей палатке. Ему нравилось смотреть, как на мокрых камнях проявляется рисунок, становятся видимыми всякие прожилки, вкрапления другой породы, золотистой слюды или прозрачного кварца. Напоследок он выливал остатки воды на редкие сухие подушечки мха. Напитавшись влагой, мох немедленно оживал, расцветал малахитовой зеленью, Сережка бежал к кому-нибудь из нас, тащил за собой и с гордостью показывал результаты своей работы.
Не через три, а ровно через два дня мы с Наташей принимали новый объект, возведенный на нешироком пространстве нашей замечательной кухни.
Мало того, что стенки «духовки» были сложены из тщательно подогнанных окатышей, а крыша накрыта плоским каменным монолитом, мало того! Кирилл Владимирович заштукатурил все сооружение огнеупорной глиной, обнаруженной на огороде у Алика. Но и это не все. Кирилл достал из машины широкий стальной лист, бережно хранимый на дне багажника, и пожертвовал его для заслонки.
Мы собрали дрова, Кирилл Владимирович торжественно разжег огонь, я замесила тесто…
Короче говоря, выпечка хлеба стала привычным делом.
БЕРЕЗКА
Новые времена, новые люди. Еще в эпоху учебы на биологическом факультете Никита привел за собой пол курса биологов. Они быстро освоились на Акбулаке и поселились на Большой поляне. К тому времени она успела зарасти травой, а поваленные деревья лесники вывезли в Бричмуллу на дрова.
Следом проникла в наши края группа художников, но эти предпочли жить вблизи кордона, в десятках шагов не доходя до нашего лагеря.
Весь день, с утра и до сумерек, они проводили в трудах за мольбертами, и только по вечерам с ними можно было говорить не только о пейзажах, освещении, кистях и красках.
Но подлинным бедствием стали хищные наезды автобусов, битком набитых не туристами, нет, особой разновидностью человечества, внезапно пожелавшей провести один день (всего один день!) на лоне роскошной природы. Такой автобус однажды прикатил в неширокий саргардонский ложок.
Двери открылись, изнутри салона посыпались дети, мужчины, женщины. Потом они стали вытаскивать бесконечные тазы, кастрюли, пакеты, узлы с недельным запасом провианта, колоссальные арбузы и дыни.
С криками, визгом и хохотом разбрелись по окрестностям, оставив возле кастрюль хлопотливых женщин. Позже собрались все вместе и начали поедать привезенную еду под оголтелую музыку магнитофона с двумя динамиками. Прощай, шум реки, прощай, птичье пение!
Они ели несколько часов, а когда обсосали последнюю косточку, обгрызли последнюю арбузную корку, погрузились в автобус и уехали. Боже мой, что они оставили после себя!
Полянка стала неузнаваемой. Кусты обломаны, трава вытоптана, словно по ней пронеслось стадо бизонов, везде валяются обглоданные кости, дынные и арбузные корки, ошметки помидоров и огурцов, целлофановые пакеты, тропинка вдоль речки загажена… ведь это все надо было переварить.
На наши возмущенные крики явились Алик и Ирали, стали ругаться и проклинать себя за то, что разрешили устроить незваным пришельцам этот ужасающий «пикник на обочине».
До вечера мы убирали мусор, обрезали сломанные ветки, чистили дорожки. Алик дал слово впредь «не пущать», но как он мог не пускать налетчиков. Настали новые времена, запреты на посещение заповедных мест перестали действовать.
В другой раз грузовик доставил на кордон группу парней весьма солидного вида. Ими командовал пожилой мужчина, и они беспрекословно подчинялись ему. Вели себя тихо, недобрых воспоминаний о себе не оставили, но и в этом случае не обошлось без приключения.
В середине дня во флигель осторожно постучал молодой человек из числа приехавших. Кто-то у них неожиданно заболел, и гонец попросил какое-нибудь сильнодействующее средство от ангины. Мы снабдили его тетрациклином и стрептоцидом, с тем он и ушел, рассыпавшись в благодарностях. А через некоторое время воротился.
- Знаете, - говорит, - с нашим другом совсем нехорошо, вы бы пошли, посмотрели, что с ним, мы ничего не можем понять.
- Но я не врач, - предупредила я гонца.
- Все равно посмотрите, очень вас просим.
Я отправилась на берег, на место их дислокации.
В стороне от основной компании, с трудом помещаясь на раскладушке, лежал грузный парень, и еще издали я увидела, как ему плохо. Голова его непрерывно металась на подстилке, из горла вырывалось нечленораздельное, хриплое мычание. Я наклонилась над ним.
Уши – вареники, лицо одутловатое, красное, глаза заплыли. «Боже мой, - обомлела я, - да у него же отек, аллергия!»
- Что он ел? – закричала я.
- Меду поел немного, а так больше ничего, мы еще не обедали. Мы думали у него ангина.
- «Ангина»! Черт бы вас драл!
Не чуя под собой ног, взлетела наверх, ворвалась во флигель, вытряхнула на кровать всю аптечку, нашла три ампулы димедрола, шприц, вату и помчалась обратно.
После укола больной стал успокаиваться. Дыхание выровнялось, глаза открылись, он перестал метаться, а вскоре, совершенно обессиленный, спокойно уснул.
Сопровождаемая благодарностями, я ушла по тропинке в лагерь, там рассказала Кириллу историю и стала казнить себя. Бездарный врачеватель! Я поверила на слово несведущему гонцу и добавила антибиотиков на развивающийся отек. Хорошо, они вовремя спохватились.
Все тот же гонец явился следом за мной в лагерь и стал совать деньги за лечение. Мы долго объясняли ему, что в горах все должны помогать друг другу, что денег за это не берут, люди мы, в конце концов, или не люди. Он смутился, ушел, а через некоторое время принес тарелку с изюмом, миндалем и колотыми грецкими орехами.
Под вечер они уехали. Проезжая мимо флигеля, посигналили, находившиеся в кузове замахали руками, стали кричать. Мой пациент сидел в кабине, здоровехонький, радостно улыбался и кивал головой.
- Да-а, - раздумчиво сказал Алик, глядя им вслед, - не случись под рукой димедрола, ведь загнулся бы парень. Как пить дать, загнулся бы.
А еще, но совсем на короткий период, появились в горах Майдантала новоявленные бизнесмены. Они приезжали на роскошных машинах, в идеально отглаженных брюках и черных рубашках с закатанными рукавами, и как-то странно смотрелись среди нашего небрежно, во что попало одетого брата. Нас они попросту не замечали, даже смотреть в нашу сторону не имели привычки, кроме одного молодого человека по имени Витя Зяблик.
Нет, это не была кличка, это он носил такую странную и смешную фамилию, и она ему, при небольшом росте, суетливых движениях и торопливой, скомканной речи как-то удивительно шла.
Зяблик стал часто приходить к нам. Что-то его неосознанно привлекало в нашем богемном образе жизни. Он часто мотался в Ташкент на вороненом, невиданного шика «Мерседесе», и усердно предлагал свои услуги в качестве снабженца. Мы воспользовались его любезностью один раз, и зареклись. Нет, он привез все, как было заказано, ничего не забыл, но отказался брать деньги. А вот это было уже совершенно лишнее. Пару дней мы гонялись за ним и тщетно уговаривали принять положенную по списку сумму. Наконец, я разозлилась и сказала, что если он не возьмет, я порву деньги на его глазах. Такого душа бизнесмена выдержать не могла. Взял.
В одну из поездок «Мерседес» Зяблика возмутился жестоким обращением на кошмарной, по меркам всякого уважающего себя иностранного автомобиля дороге, забастовал, сел на камень, камнем пробило днище и повредило драгоценный мотор. Машину потом вывозили с помощью трактора, а Зяблик, оставшийся на время без «тачки» катастрофически запил.
Хмельной и потерянный, он приходил на кордон и, уже в сотый раз, начинал излагать свою жизненную установку и розовую мечту, касавшуюся непосредственно здешних мест. В дьявольском плане Зяблика насчитывалось четыре основных пункта.
Первый. Пройдет немного времени, и он проведет на Акбулак асфальтированное шоссе. Второй. Он купит всю долину Саргардона, и возведет на месте нашего лагеря (прелестное, прелестное место) роскошный замок. Третий. Женится на самой красивой женщине в мире (или на двух).
- Или на трех, - подсказывала Наташа.
- Можно и на трех, - покладисто соглашался Зяблик и умильно поглядывал на нашу красавицу дочь.
Он как-то забывал о ее семейном статусе.
Четвертый пункт, и самый главный. Он съездит в Туркмению и купит белого жеребца. Непременно ахалтекинского жеребца, статного, с тонкими ногами и лебединой шеей. Иногда он заносился в мечтах в присутствии Алика. Алик кривил в усмешке рот и спрашивал.
- А кто будет ходить за твоим жеребцом? Ты же не будешь здесь жить все время.
У Вити Зяблика был готов ответ на любой вопрос. Доверительно наклонившись к Алику, похлопывал его по руке.
- Не беспокойтесь, я вас найму.
Услышав такое, Алик заходился громовым хохотом, отчего сотрясалось его большое тело.
- А ты меня спросил, захочу я к тебе наняться?
- Отчего же – нет? Я хорошо заплачу.
Не переставая смеяться, Алик уходил в «Белый дом», заваливался на широкую кровать. Он не желал ни убеждать, ни спорить.
Зяблик тоже удалялся к своей компании на Большую поляну, а мы смотрели ему вслед и дружно хихикали, представляя, как этот смешной маленький человечек с непомерными амбициями будет разъезжать по горам на белом коне и, подобно Наполеону при Аустерлице, осматривать свои владения.
А еще мне было смертельно жалко себя и всю нашу компанию, ведь когда наступит время «икс», и начнется строительство замка, нас с нашего любимого места погонят.
Но это была, так сказать, преамбула к основной теме данного рассказа. Забудем на время о Зяблике.
Я уже говорила, что на подступах к Большой поляне, вблизи волчих камней, находилась гигантская осыпь. Вернее, две, но вторая не так впечатляла и была не так опасна. Расстояние между осыпями измерялось несколькими десятками метров, и кроме травы и единственного старого куста тамариска с нежными, розовато-сиреневыми кисточками соцветий на глиняном склоне ничего не росло.
Щебенка на главной осыпи была темной, с зернистой поблескивающей фактурой на сломах. В сумерках она приобретала жуткий фиолетовый оттенок, лежала, сбежав к дороге широченным разлапистым языком, и проходить мимо него было всегда страшновато. Детям категорически запрещалось лазать на осыпь, но их неизменно привлекала кажущаяся легкость восхождения, и тайком от нас они поднимались на уровень тамариска, а потом подолгу сидели там одинокие и несчастные, опасаясь слезть на дорогу.
В новые времена, мы даже не сразу обратили на это внимание, с левого края гигантской осыпи, если стоять к ней лицом, выросла стройная, тоненькая березка. В ней было что-то невыразимо трогательное и печальное, уязвимое в соседстве с застывшим, мертвенным камнепадом.
Но она спокойно росла на границе камней и глиняного, поросшего жесткой травой склона, лопотала листвой на тихом березовом языке. Это была обычная, тяньшаньская березка, каких много в урочище Майдантал, и мы часто задавались вопросом, как она там оказалась и не страшно ли ей в соседстве с угрюмой и молчаливой осыпью.
Однажды Витя Зяблик поведал мне тайну березки. Оказывается, года два назад, он приезжал на Акбулак с веселой и шумной компанией. Дорвавшиеся до дикой природы, господа бизнесмены съели несметное количество шашлыков, выпили несметное количество водки. Какой-то черт, скорее всего, зеленый, подвиг нашего Зяблика среди ночи оставить честную компанию и отправиться, неизвестно для какой надобности, по ничем не освещенной дороге (луны к несчастью не было) в сторону кордона.
Он успел дойти до осыпи и свалился замертво. Что было потом, не помнил, очнулся лишь рано утром. Сел, отряхнул с очей грезы ночи и обнаружил в каких-то сантиметрах возле себя свежий, совсем недавно свалившийся сверху, непомерной величины остроугольный камень. Чуть в сторону, и от нашего Зяблика (по его словам) осталось бы только воспоминание. Глядя на глыбу, он припомнил, будто сквозь пьяный бред ему слышался страшный грохот, но пробудиться не смог и провалился в сон снова.
И вот в благодарность за чудесное спасение, Зяблик не поленился сходить в Березовую рощу, нашел молодой росток, выкопал его, перенес и посадил на памятном месте. Юная березка прижилась, и растет теперь на радость себе и людям.
Как ни странно, поначалу мы Зяблику поверили. При всем бережливом отношении к деньгам, его душа была исполнена первобытного, мохнатого романтизма, начиная с планируемого дворца на берегах Саргардона и заканчивая белой лошадью, купленной в Туркмении за миллионы зеленых баксов.
Все кончилось печально. В один прекрасный день, для кого прекрасный, а для Зяблика нет, на Акбулак прорвался очередной «Мерседес», из него выскочили бойкие молодые люди в черных рубашках с закатанными рукавами, о чем-то долго шептались с Витюшей, потом затолкали его в машину и уехали, оставив за собой хвост похожей на пудру пыли.
По слухам бизнесу его пришел конец, он едва сумел рассчитаться с основными кредиторами, не основных оставил с носом, и исчез навсегда где-то в районе веселых островов Зеленого Мыса. Так и не успел наш Зяблик построить замок на Саргардоне, так и не женился на самой красивой девушке в мире, так и не купил белоснежного ахалтекинского жеребца.
Скоро мы думать о нем забыли, но история березки получила неожиданное развитие. Зябликову байку мы рассказали Алику. Он хмыкнул, пожал плечами и, с полной ответственностью за свои слова, заявил, что никакого Зяблика два года назад на Акбулаке и в помине не было, что кишка у него тонка - сажать и выхаживать без должного навыка на каменистой почве деревья, что березку посадил он сам, Алик, и кончен на том разговор.
Не прошло и трех дней, нам довелось идти мимо осыпи с одним давно знакомым, веселым фотографом.
- Смотри, - показал Кирилл на спорное деревце, - какую чудесную березку додумался посадить в этом месте Алик…
-Алик?! – немедленно возмутился фотограф, - какой такой Алик! Это моя березка, лично я посадил ее здесь два года назад, и, смотрите, как она хорошо прижилась! Скажете тоже, Алик!
Та-ак, повторялась известная история с треской Джерома К. Джерома. Если бы я все это выдумала, меня можно было бы обвинить в плагиате, но клянусь всеми акбулакскими добрыми духами, я рассказываю истинную правду.
Мы с Наташей решили не останавливаться на достигнутом и отправились к Хасану Терентьевичу. Как и следовало ожидать, березку посадил он. Это уже скорей походило на правду. Все тополя, все сосенки на кордоне были его посадками, но с какой такой непонятной стати ему вдруг пришло в голову сажать березку рядом с негостеприимной гигантской осыпью? Это было необъяснимо, и однажды, совершая вечернюю прогулку в сторону Большой поляны, я решила доискаться до истины. Я пришла к роковому для Зяблика месту, взобралась, цепляясь за пучки травы, на крутую горку и села возле березки.
- Березка, березка, кто тебя посадил? – тихо спросила я.
Вздохнула березка, зашелестела листвой:
- Никто меня не сажал. Ветер занес под камень семечко, дождик смочил землю, семечко проросло, так я сама по себе и выросла.
В ПОИСКАХ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ
Рухнули коварные планы Зяблика построить на нашем любимом месте роскошный дворец с башенками, античными портиками и мраморным бассейном. Немного успокоенные, мы продолжали расширять границы и облагораживать новые территории вокруг палатки.
Честно говоря, изначально наш уголок был несколько тесноват и имел серьезные недостатки. Сама палатка стояла на ровном месте, а все пространство за нею шло слегка вверх, и всякий раз приходилось вытягивать ножки складного стола на разную длину, чтобы он не качался и стоял ровно. Но с этим можно было мириться, если бы не полуденное солнце. Оно щедро заливало всю «кухню», и накаляло ткань палатки. Находиться в ней в жару было просто невозможно.
В нашу сторону от главной широкой тропы мы проторили узкую дорожку среди поросших мхом и лишайником камней, и в первый год на том успокоились и мирились с недостатками, в надежде со временем что-нибудь придумать. Кирилл Владимирович так и говорил:
- Не волнуйся, мы что-нибудь придумаем.
Расширять владения на север, вверх по Саргардону, мы не могли, там испокон веков громоздились выше человеческого роста каменные завалы. Наши взоры были обращены назад, на неширокую площадку между откосом и ежевичной порослью среди стволов боярышника и уже упоминавшегося мною клена. От основной тропы и прохожих мы были надежно заслонены непроходимой завесой зелени.
На следующий год мы расчистили еще один небольшой пятачок земли, освободив его от сухих веток и мелких камней. Теперь у нас образовалась ровная хорошо затененная «комната», где можно было спокойно сидеть за столом, и не бояться неловких движений, от которых могла рухнуть на землю посуда, чашки и плошки. Здесь мы поставили раскладушку и укладывали Сережу спать днем в тени.
Итак, мы расширили территорию, но не хотелось успокаиваться на этом. Я все время поглядывала на следующий за новой «комнатой» чудесный уголок с нависающей над ним плотной завесой клена.
Горизонтально вытянутый сухой сук можно было спилить, ежевичные плети, хилые из-за постоянной тени, вырубить, слой прелой листвы убрать, но, к сожалению, посреди планируемой «гостиной» торчал гранитный валун, и сдвинуть его с места не представлялось никакой возможности.
В разгар наших споров о масштабах грядущих работ, я была за их начало, Кирилл против, к нам в лагерь пришел Володя и затеял очень странный разговор. Суть его в нескольких словах сводилась к следующему: «А почему бы нам, не взять на Саргардоне в аренду несколько соток земли!»
- А можно?
- Почему же нельзя? Вокруг нас три пасеки. Как вы думаете, на каком основании у них тут дома?
- Ну, дома! – не согласилась я, - дома – слишком сильно сказано.
- Хорошо, согласен, халупы, но они построены. И сколько лет стоят?
- Да сколько мы здесь себя помним.
Действительно, вокруг кордона стояло три пасеки. Одна, недавняя неподалеку от нас, отгороженная от дороги штакетником, с деревянным сборным домиком, небольшим наполовину заброшенным огородом и ульями. Хозяин бывал наездами, в особую дружбу ни с кем не входил, так: «Здрасте - до свидания». Мы тоже в его дела не вмешивались.
Другая пасека находилась с противоположной стороны дороги, в небольшой ложбинке между лугом и Саргардоном. Мы были знакомы с пасечником, ходили к нему за медом, но в последнюю снежную зиму его участок накрыло лавиной.
Она сошла с противоположного крутого распадка, перекрыла Акбулак, и страшной ударной волной повалила крошечную избушку и старые тополя. Деревья сломались, как спички, ульи оказались погребенными под толстым слоем снега. Но пчелы не погибли. Они дождались ранней весны и хозяина. Снег разгребли, пчелиные домики увезли куда-то на новое место. Глядя на опустевшую пасеку, Алик качал головой:
- А ведь говорили ему, здесь опасно, нет, куда там, авось пронесет.
Так и осталось то место пустым, заваленным обломками веток, со стволами поверженных тополей, да открылась нашему взору точка слияния Акбулака и Саргардона.
Третья пасека принадлежала Косте и его жене Акбулакской Мадонне. Как ее звали на самом деле, честное слово, не знаю, но прозвищем она обязана была Алику. По поводу чего они поссорились, теперь уже никто и не вспомнит, но ссора была, и результатом ее явилось новое имя – Акбулакская Мадонна. С несколько иронической интонацией, мол, тоже мне, Мадонна!
Ну-у, у нее и Кости совершенно другое дело, у них было отличное хозяйство! Располагалось оно вдоль спуска на небольшую поляну, где мы стояли в год, когда под ногами Кирилла качались «живые» камни. Пасека уже тогда была, заросшая с дороги поверх штакетника густым переплетением зелени, защищенная с другой стороны Акбулаком.
У Мадонны все росло, все цвело, все плодоносило, Костя накачивал полные фляги душистого меду. Домик был сложен из самана, оштукатурен и чисто выбелен, ульи стояли ровными рядами, вокруг них вились золотые пчелки.
Ни у Мадонны, ни у Кости мед мы не покупали. Они качали втихую и немедленно увозили в Ташкент на продажу тяжеленные фляги.
Самый вкусный, можно сказать, роскошный, высокогорный мед привозил нам Саидберды.
Проездом с дальнего кордона в Бричмуллу останавливался возле лагеря, не слезая с коня, протягивал мне баклажку, пронизанную янтарем и солнцем, и сразу уезжал, отложив расчет до следующего раза.
Но я отвлеклась от серьезного разговора с Володей.
- Хорошо, - сказал Кирилл, - у них пасеки, а нам на каком основании вдруг дадут землю в аренду.
- Тоже под пасеку. И деревья надо будет посадить, какие хочешь, это одно из условий.
- Знаешь, - усмехнулся Кирилл, - кем только я в своей жизни не был, теперь лишь пчел для полноты счастья не хватает.
- Послушай, - сморщился Володя, - кто тебя будет проверять? Ты оформи документы, начни строительство дома, а там…
Я загорелась.
- Кирилл, давай! Что тут раздумывать? Ты представляешь, мы останемся здесь навсегда!
- И нас похоронят на Абдаке под арчой, забросав розами и ветками дуба.
- Ну, зачем ты так? – обиделась я, - главное, нас никто не сможет согнать с места!
Но тут в разговор вклинилась Наташка.
- Какой дом! Вы на даче ничего за двадцать пять лет не построили! – подсела к столу, положила подбородок на кулачки, - Владимир Андреевич, милые родители, вы издевались над Зябликом с его дворцами, а сами? Чем вы от него отличаетесь?
- Знаешь, Наташа, - отозвался Володя и сердито прищурился, - вот когда эти Зяблики рано или поздно проведут сюда асфальт и загребут всю округу, не под дворцы, нет, дворцов здесь не станут строить, здесь поставят заборы и огородят все доступные места. Что ты тогда запоешь? Наконец, строительство. Да тяните время сколько угодно. Главное, забить за собой место. А там, посади несколько деревьев, ставь палатку и живи хоть до конца своих дней, как говорит твоя мама.
Мы переглянулись. А что? Это мысль. Будем приезжать каждое лето, как прежде жить под открытым небом, а там, кто знает, может, и халупу какую-нибудь возведем. И уже стал нам казаться наш лагерь, при всей его ухоженности, тесным и неудобным, а, главное, бесперспективным.
Да к тому же, в разговоре промелькнула не до конца осознанная мысль. Мы получим аренду, и первое, что сделает Володя - отгородит свою полянку. Тогда за дровами вверх по Саргардону мы уже не сможем пройти. Надо будет обходить кордон, далеко огибать его участок, раздражаться при этом: «Черт, наставили тут штакетников, ни пройти, ни проехать!»
И Кирилл дал обещание Володе хорошо подумать над его предложением и осенью вместе с ним поехать в лесхоз за информацией, а там, как знать, и документы оформить.
Не откладывая дела в долгий ящик, мы стали искать участок под аренду.
Ровную площадку, соток так на пять-шесть, найти в горах нелегко, да еще с условием, чтобы она находилась неподалеку от кордона. Хозяйство разрастется, не будем же мы всякий раз все возить на своем горбу, вернее, на багажнике автомобиля. А так, оставим в сарайчике у Хасана Терентьевича, он и присмотрит за барахлишком. Или у Алика.
В один из поисковых дней я отправилась одна вниз по дороге, она проходила здесь по краю обрыва. Отошла от кордона метров на сто и остановилась. Какое-то не вполне естественное положение вершин нескольких деревьев привлекло мое внимание. Их отделяли от дороги густые ежевичные заросли. Я внимательно пригляделась, и поняла, что дорасти сюда снизу, с берега, они никак не могли. Это не секвойи. Значит, там есть уступ!
Я стала продираться сквозь ежевичные дебри. Нелегкое это было дело. Мощные розовые плети с жесткой, шершавой листвой, сплошь в загнутых острых колючках, больше похожих на кошачьи когти, закрывали мне путь. Осторожно, стараясь не уколоться и не запутаться платьем так, что потом и не выберешься, я вытаскивала их по одной из гущи, отгибала, старалась перебросить в другую сторону, а они впивались в одежду, царапали руки и ноги, и ни за что не хотели пускать. Но я мужественно преодолела колючий заслон, и, к великому удивлению обнаружила за ним старый, едва приметный съезд для машины. Он шел наискосок, вписавшись в обрыв, и заканчивался возле корней старой, могучей орешины. Я легко спустилась и оказалась на ровной, заросшей разнообразной зеленью площадке.
Она была просторна и чудесно озарена солнцем. Но и тени здесь было предостаточно. С одной стороны – орешина, с другой – тополя и какие-то кусты. Вид с обнаруженного мною, невидимого с дороги уступа, открывался поистине грандиозный.
Все ущелье, с запада на восток просматривалось во всей своей неописуемой красоте. Вниз по течению Акбулака уходили одна за другой неприступные, с отвесными склонами горы. Самые дальние терялись в легкой дымке, и уже не видно было на них ни сумрачных скал, ни цепляющихся за каждую пядь плодородной почвы арчовников, виднелись только их темные силуэты на фоне блеклого, выцветшего от зноя неба.
Повернувшись в противоположную сторону, я увидела хребет водораздела между Акбулаком и Тереклисаем; ближе к уступу, но все же довольно далеко – лесные дебри Большой поляны и желтые скалы над нею. Еще ближе – пасеку Мадонны и Кости и давно покинутый старый лагерь с Белым камнем на берегу. А далеко внизу в белой пене, в хрустальных брызгах, клокотал и уносил свои воды к Чаткалу неистовый Акбулак.
Я немного успокоилась и снова прошлась по площадке. Чудо, среди кустов и путаницы ежевики вдруг обнаружился наполовину разрушенный и почти сровнявшийся с землей, сложенный из дикого камня фундамент. Давным-давно, а, впрочем, быть может, совсем недавно, здесь явно пытались что-то строить. Я выбралась на дорогу и побежала в лагерь.
- Идем, Кирилл, ты должен это увидеть!
Не отпуская его руки, я влекла, волокла, тащила, вела его за собой. Мы примчались на место, прошли сквозь кусты ежевики по уже проторенному пути, спустились вниз, очутились на свободном пространстве, и у Кирилла, как и у меня, захватило дух.
Но вскоре Кирилл Владимирович пришел в себя и произнес одно, роковое слово:
- Вода!
Увы, питьевой воды в этом месте не было. А к реке спускаться вниз по обрыву далеко и небезопасно. Мы вернулись в лагерь, размышляя вслух и прикидывая, как выйти из положения, и даже подумали, а нельзя ли отвести в нашу (да-да, уже в «нашу») сторону вдоль дороги небольшой рукав от главного ручья, питающего луг. Но этот нелегкий вопрос упирался в серьезные переговоры с лесниками, и мы, все еще сомневаясь и споря, отложили его на «потом», так как стало известно, что после обеда мне покажут другой участок, возможно, менее привлекательный, но зато воды там будет в избытке. При этом Кирилл хитро прищурился с видом, мол, это секрет, и сейчас он больше ничего не добавит.
После обеда я помыла в реке посуду, Наташа уложила сына на раскладушку на дневной сон (во флигеле мы больше не жили, полностью перебрались в палатку), сама села под дерево с книжкой, а мы отправились вдвоем искать обетованную землю.
Он повел меня через луг, в сторону Костиной пасеки. Там, в головах огороженного участка, мимо штакетника, пролегала тропинка к берегу, к глубокой и мрачной купальне под темной скалой. Мы не любили ее и редко сюда приходили, - она постоянно находилась в тени. С утра солнце заслоняла скала, после обеда – высокие деревья. Вода в ямине казалась в сто раз холодней, чем во всей остальной реке.
Но поскольку вся она стекала в купальню, чуть ниже по течению, Акбулак можно было легко перейти вброд. Что мы и сделали, и очутились на другом, таинственном берегу. Полоска суши была узка, сразу за нею вздымались горы. Было уютно, тепло и как-то по-особому одиноко. Мы прошли с десяток метров вверх по реке и обнаружили густые, выше человеческого роста, заросли мяты.
Чтобы пройти дальше, нам пришлось немного отогнуть стебли с чистыми, мягкими, бархатными листочками и нежными сиреневыми соцветиями. Оттого, что до них дотронулись и пошевелили всю поросль, воздух тут же пропитался ни с чем не сравнимым, ментоловым ароматом. Еще несколько шагов вперед и я внезапно остановилась в восхищении.
В этом месте путь Акбулака пролегал над скальным дном, светлым, чуть тронутым желтизной. Терпеливая река веками омывала камень, и он поддался, сгладился и образовал просторную, глубокую ванну. Вода в ней была насквозь пронизана светом, на дне неторопливо шевелились увеличенные во много раз солнечные блики от мелких волн, даже не волн, легкой ряби на ее поверхности. Скользнул на воду принесенный неведомо откуда желтый листок (осень в горах наступает рано) и поплыл, как маленькая лодочка, медленно приближаясь к берегу, потом причалил и замер на месте. Со стороны потока, в самом глубоком месте купальни река нанесла слой мельчайшего, белого, собранного в гармошку песка.
Я смотрела на это диво и чувствовала только одно: если я немедленно не погружусь в эти животворные, волшебные воды, это будет самой страшной ошибкой в моей жизни.
Скинула платье, осталась в купальнике, потом подумала, сняла и его. Я почувствовала, что одежда осквернит, разрушит очарование минуты.
На какой-то миг показалось, будто я - единственная на свете женщина, а на берегу остался мой единственный на свете мужчина с застывшей, все понимающей мудрой улыбкой.
Не спеша, принимая на жаркое тело холодную, сияющую воду, зашла в глубину, и остановилась лишь, когда пальцы ног начали потихоньку отрываться от светлого, видимого до мельчайшей прожилки на вымытом камне, дна.
Минуту, две, вечность, не знаю, сколько времени я простояла на месте, вытянувшись в струнку, чуть поводя для равновесия руками, потом повернулась и также, не спеша, ступая по ровному, чуть шершавому основанию скалы, стала выходить на берег.
Наверно Ева в своем Эдеме точно так, выходила когда-то из первозданных вод, из беломраморных уединенных лесных купален.
Я оделась, и мы еще некоторое время постояли на месте, не в силах сразу расстаться ни с мгновеньем, ни с местом. Потом, снова, но уже с другой стороны бухточки, раздвинули глухие заросли мяты, миновали их и молча отправились дальше, прыгая с камня на камень вдоль берега.
- Куда ты ведешь меня? – нарушила я молчание, и внезапно, не дожидаясь ответа, крикнула, - остров! Ну, разумеется, мы идем на остров!
И, в самом деле, как было не угадать конечную цель путешествия, когда она уже была перед нами в пределах видимости.
Когда-то это был настоящий остров. От западной оконечности Большой поляны его отделял широкий, но мелкий поток, и, перебравшись через него, мы оказывались в уединенном, заповедном царстве. Разделившись на два рукава, Акбулак омывал с двух сторон солидный участок леса с буреломом и затененными, неширокими протоками со стоячей темной водой.
Над протоками росли кусты ежевики, в период созревания с них свисали тяжелые грозди с налитыми сизыми ягодами. Вот за ними мы сюда и ходили в старые добрые времена. В иной год можно было набрать полное большое ведро.
Ежевику приносили в лагерь, варили компоты, варенье, но только собирать ее было сущим наказанием. Самые спелые грозди висели над протоками, приходилось лезть в ледяную воду, баламутить ил и следить, чтобы к тебе не прицепилась какая-нибудь захудалая, злая пиявка.
Обращенная к основному руслу сторона острова была свободной от деревьев, здесь росла высокая луговая трава. К середине лета она высыхала и стояла, позванивая на легком ветру пустыми колосками диких злаков.
Однажды на границе леса и луга мы с Кириллом нашли молодую дикую яблоньку. Ближе к вершине на ней висело с десяток налитых, ровного, нежно-лимонного цвета яблок. Я встала на цыпочки, достала одно, чуть коснулась его, - яблочко тут же оказалось у меня в ладони. Оно было ароматным, гладким и без единой червоточины.
Обычно дикие яблоки кислые, сильно горчат, а это оказалось необыкновенно сладким.
Тогда Кирилл слегка тряхнул деревце, яблоки тут же, все сразу, будто ждали, обрушились в сухую траву. Ни одно не побилось. Мы отыскали их, положили в мою шляпу и принесли в лагерь. Помню, жители Большой поляны никак не решались их есть. Держали яблоки в руках, натирали до блеска кожицу, подносили к лицу и с наслаждением вдыхали тонкий яблочный аромат.
Но больше нам не удалось вновь отыскать эту яблоньку. Мы не раз приходили на опушку (здесь она росла, здесь!), задирали вверх головы, щурились от солнца, но никаких следов яблок не находили. Словно нам был сделан однажды подарок, а после яблонька по волшебству исчезла, будто ее никогда и не было на этом месте.
После наводнения и Большой воды остров перестал быть островом. Русло реки изменилось, ушло в сторону, размыло дорогу; второго рукава под скалами на противоположном берегу, не стало. Там, где когда-то бежала вода, остались сухие, безжизненные камни.
Мы прошли по ним на бывший остров, обогнули бурелом и завалы прелой листвы, вышли на опушку. На виду широко и мощно бегущего Акбулака Кирилл огляделся и сказал:
- Чем тебе не место нашей мечты! Вода – вот она, тень – вон там, тени сколько угодно, а здесь солнце, простор. Что тебе еще нужно для полного счастья!
- Все так, - согласилась я, - но как ты проедешь сюда на машине?
Совершенно непохоже на него Кирилл легкомысленно махнул рукой.
- Временно можно будет оставлять ее на кордоне, а потом что-нибудь придумается.
Я немедленно, и не менее легкомысленно согласилась, конечно, придумается, и мы тронулись в обратный путь.
Но на половине дороги сама не знаю, почему, обернулась. Часть острова еще была видна, не заслоненная ближними деревьями. Неясная мысль кольнула сердце: «Вот возьмем мы его в аренду, обнесем забором, никого не станем пускать, будем жить в постоянном страхе, как бы кто не нарушил наших владений. На всякий случай купим ружье, и если придет по привычке за ежевикой медведь, убьем его наповал. Так, что ли?»
- Знаешь, Кирилл, - жалобно протянула я, - что-то мне грустно стало.
Он не ответил. Лишь возле волшебной тихой купальни (вода на закате стояла в ней, как сгустившийся воздух), усадил на теплый камень и стал разбираться в причинах моей непонятной грусти.
- Не надо нам никакой аренды, - чуть не со слезами на глазах, говорила я, - пусть Акбулак будет всегда, и пусть все останется, как есть. Иначе мы потеряем последних друзей, изменим самим себе и очумеем от одиночества.
- А как же Зяблики? Ведь придут и поделят землю, Володя прав.
- Но мы же не Зяблики…
Кирилл помолчал, подобрал круглый камешек, почти шарик, повертел в руке, потом бросил в середину купальни. Тихо булькнуло, по воде побежали круги.
- Ладно, мама, - облегчил он мою душу, - уговорила, не будем брать аренду. Я согласен с тобой. Это не наша охота.
Счастливые и свободные, мы пришли в лагерь. На своем месте, на давно облюбованном камне сидел Саидберды. Громогласно, немного каркающим голосом, он что-то объяснял Сереже и строгал длинную палку. Сережа во все глаза смотрел на него в ожидании чего-то необычайно приятного. Наташа хлопотала у очага, кипятила чайник. Поодаль от лагеря, на берегу, привязанный к стволу тополя, смирно стоял каурый конь Васька. Лишь изредка он взмахивал головой, отгоняя мух, фыркал губами и обмахивался хвостом.
Наташа собрала чай, поставила на стол акбулакское угощение – недавно испеченный хлеб и чашку с медом. Саидберды закончил строгать палку. Как выяснилось, он мастерил для Сергея лук. Когда тетива была натянута, когда заточены были тонкие стрелы, и наш мальчик выбежал на открытое место учиться стрелять, мы наперебой стали рассказывать Наташе и Саидберды о нашем походе и обнаруженной на другом берегу Акбулака удивительной купальне, укрытой от посторонних глаз и заросшей со всех сторон непролазной стеной мяты.
Саидберды слушал молча, пил чай, макал кусочек хлеба в чашку и, аккуратно, стараясь не капнуть медом, отправлял в рот. Над его головой вилась пчела, но он не обращал на нее никакого внимания.
КАМЕНЬ САИДБЕРДЫ
Мы подружились с Саидберды в более позднее время. Прежде, в эпоху Большой поляны, он был, как и мы, намного моложе, и как-то тушевался за широкой спиной отца, могущественного в пределах акбулакского хозяйства, грузного и неповоротливого Мамадали. Мамадали был страстным шахматистом, часто заглядывал к нам проездом на кордон. А Саидберды, видя, что папа застрял надолго, что ему предстоят не только шахматы, но и шумные разговоры о жизни и даже непременное угощение, трогал коня и уезжал по дороге один.
В новые времена Мамадали состарился, ушел на пенсию и жил на покое в большом бричмуллинском доме. Бывая в Бричмулле, мы обязательно навещали его, иначе это стало бы кровной обидой. Он радостно и шумно встречал гостей, усаживал на айван, поил чаем, угощал фруктами из собственного сада, и, умильно поглядывая, уговаривал Кирилла сыграть хотя бы одну партию.
В отличие от отца, Саидберды был невелик ростом, коренаст и очень силен. Загорелое, сухое лицо всегда тщательно выбрито, чем-то он напоминал индейца, полевая форма, положенная старшему инспектору лесхоза, хорошо подогнана.
Ноги его были слегка кривоваты, как это случается с лошадниками. Саидберды, можно сказать, не слезал с коня, безмерно любил его и, всякий раз, как проездом останавливался в нашем лагере, восторженно отзывался о Ваське, хвалил его золотой характер.
Конь Васька, и впрямь, был замечательным существом. Про него даже нельзя говорить как о животном, настолько он был умен, кроток, но с хитрецой.
Наташа как-то решила покататься на Ваське. Саидберды помог ей усесться, конь тронулся, наша дочь, счастливая и гордая, уверенно сидя в седле, скрылась за поворотом.
Мы остались в лагере, разговариваем, вдруг Саидберды забеспокоился:
- Что-то ее долго нет.
Вскочил, поднялся на кордон, вышел за калитку. И что же? Возле дерева, в густой тени, на своем законном привычном месте, стоит, как ни в чем не бывало, Васька и ухом не ведет на все понукания всадницы. Вид у него такой, мол, я тебя покатал, довез куда надо, а теперь и коню положен законный отдых.
На кордоне пусто, никого нет, некому подсказать, что делать с плутишкой.
Саидберды расхохотался, подошел к Ваське, что-то сказал ему на ухо, видно попросил не позорить хозяина, велел Наташе туже натянуть поводья, и конь тронулся с места, пошел вверх по дороге, никуда не торопясь, помахивая гривой.
У Саидберды в нашем лагере тоже было законное место, удобный, отдаленно напоминающий кресло, камень. Будто специально, природа умудрилась изваять из куска базальта гладкое сиденье с невысокой закругленной спинкой. Правда, один подлокотник был выше другого, но на это не обращали внимания. Уютное, пусть жесткое, кресло так и называлось – Камень Саидберды. Испокон веков он стоял в укромном углу нашей «кухни», заглубленный немного в кусты боярышника. Когда Саидберды садился на камень, он оказывался весь окруженный зеленью. Одна ветка над головой вечно ему досаждала, но он ее не ломал, всякий раз отгибал и старался зацепить за протянутую от палатки веревку.
Нас всегда восхищало его бережное отношение к природе. И что тут было удивительного, если он сам был частью ее. Так же, как Хасан Терентьевич, он знал о Майдантале все, его служба в лесхозе была всего лишь способом существования в родных горах.
Но вот наш лагерь расширился, образовалась новая «комната». Приезжает Саидберды. Стол на новом месте, а камень остался на старом. Попробовал подыскать другой, сколько-то валунов по краю оставалось в избытке, - не получается, неудобно, и от стола далеко.
Саидбеды, ничего не говоря, отправился к своему камню, раскачал, подсунул под него ладони, крякнул, поднатужился, поднял и, часто переступая согнутыми ногами, перенес на новое место. Так и гупнуло, когда он бросил его на землю. Сел, как ни в чем не бывало, отряхнул руки, потянулся к пиале с чаем, и стал рассказывать, как они с Васькой ровно три дня назад повстречались с медведем.
У нашего друга был пунктик – медвежьи истории. Приедет, обязательно расскажет какую-нибудь байку. То, как медведь забрался на пасеку, разорил улей. Его кусают, а он ревет, но лапой все равно лезет в соты, а потом вместе с пчелами в рот сует. В последнюю минуту лишь увидел человека с ружьем и кинулся наутек.
- Ушел? – с надеждой спрашивала Наташа.
Саидберды даже не трудился ответить, лишь бровь поднимал, и становилось ясно – нет, не ушел, расплатился шкурой за пылкую любовь к бесплатному угощению.
В другой раз повстречается с мишкой на узкой тропе и заводит с ним долгие разговоры, потому что ружье в такой ситуации не вскинешь, не успеешь, медведь ловчее. Но человеческой речи не терпит, послушает, послушает, повернется и уйдет с дороги.
Рассказы Саидберды были своеобразны, мы хохотали над ними до упаду, а он не обижался, посматривал добродушно и терпеливо ждал, когда мы отсмеемся.
- В Бричмулле засиделся у отца, - удобно усевшись на камне, принял у меня пиалу с чаем Саидберды, - ну, мы, туда-сюда, стол собрали, посидели, да, потом я решил ехать. Отец хотел не пускать: «Куда ты поедешь ночью, ты же совсем пьяный». Но я не послушал, поехал. Какой пьяный, по чуть-чуть всего ничего выпили, да. Ехал, ехал, уснул в седле. Еду и сплю. Потом, чувствую – стоим. Проснулся, а мы уже на кордоне. У Алика свечка горит, думаю, зайду к нему. Слез, Ваську к дереву привязал, сам к Алику захожу. Потом во дворе, ла-ла-ла, посидели немного, да. Не пили, нет. Алик говорит: «Пить не будем, ты уже и так хороший». Я согласился, говорю: «Не будем». А сам подумал, это он так говорит, потому что у него ничего нету. Если б было, он бы так не сказал, правильно? У самого ничего нету, а меня оставляет ночевать. Но я не захотел. С отцом не остался, да, а с ним останусь. У него в «Белом доме» духота, топор можно вешать. Поехал я. Ехал-ехал, уснул. Васька он такой, пьяный, трезвый, сонный – все равно до места довезет. Вдруг меня, как что кольнуло, да. Очухался, опять стоим. Огляделся, разобрал, где. Километра четыре до Березовой рощи не доехали, возле щели остановились, будь она неладна. Как щель, так обязательно что-нибудь не так, да…
Было, было на Акбулаке такое место. Теснина, река шумит, скалы вздыблены отвесно в небеса, эхом отдают, и кажется, будто шум от них самих и исходит. А еще меж двух скал, с нашей стороны, - узкий проход в недра горы. Если встать боком, то можно продвинуться немного внутрь, но никому и в голову не приходило лезть в густую черноту, в неизвестность.
Днем – ничего, но стоило оказаться возле этой щели в сумерках, тебя охватывал беспричинный страх, даже не страх, а какая-то космического масштаба мгновенная жуть. И тут же отпускала.
Взрослые ускоряли шаг, торопились скорее пройти мимо, а Никита однажды драпал оттуда, только пятки сверкали. Я как-то подробно обрисовала ему скалу, спросила, что он чувствует возле нее. Ответил, не задумываясь:
- Мама, ты знаешь, я не трус, но там очень страшно.
И вот на этом месте остановился конь Васька.
- Говорю Ваське: «Поехали, что стоишь!» А он ни с места, только губами фырчит. Я присмотрелся, на дороге что-то чернеется. Чернеется, да, и шевелится. Еще лучше присмотрелся, а там медведь! Ух, ты, думаю, вот удача! Но это же щель, да. От нее разве можно ждать чего хорошего? Хвать за ружье, а ружья нет. Где ружье! Уйдет же! Твою… да… Хоть и нетрезвый, а вспомнил, - я ж его на кордоне у Алика забыл! Ружье, не пропадет, завтра за ним поеду, а мишка, что, будет стоять по стойке смирно? Матерился я, не знаю, как. В присутствии женщин повторять не буду. А тот, как все равно издевается, да. Стоит, с места не сходит и смотрит на нас. А мы с Васькой на него. Я тогда с седла наклонился, как гаркну: «Хах!» Он – в речку, на ту сторону, в кусты и, как будто не было. Вот так. А мы с Васькой дальше поехали. Вот такая история, да.
Эпопея с арендой для нас, как известно, закончилась ничем. Володя, правда, продолжал носиться с несколько обветшавшей идеей, но мы на эту тему перестали не только говорить, но даже думать. Однако, о несбывшихся мечтах, при случае, рассказали Саидберды. Он слушал, хмыкал, мотал головой. Потом сказал:
- Вот ты умный человек, Кирилл, да. Скажи, зачем тебе нужно, чтобы голова болела? Ты приезжаешь отдыхать. Тебе кто мешает? Никто не мешает. Вот и приезжай. Мы, местные, почему к вам хорошо относимся? Потому что вы наши горы уважаете. И всех, кто здесь постоянно живет, да, тоже уважаете. Мы же чувствуем, что мы для вас не шаляй-валяй, а люди. Вы правильно решили, не надо никакой аренды. Мы вас всегда примем, и в обиду никому не дадим.
С тем он и уехал, вопрос был исчерпан, мы решили продолжить расчистку территории, несмотря на торчащую посреди облюбованной площадки гранитную глыбу, в надежде, что со временем что-нибудь с нею придумаем.
Первым делом, убрали сухие ежевичные плети, подстригли и облагородили куст шиповника, расчистили проход и проникли внутрь укромного, затененного со всех сторон уголка, ну, прямо созданного для раздумий и отдохновения. Затем Кирилл Владимирович принялся пилить толстую сухую ветку, прижимая пилу как можно ближе к стволу клена.
Убрали ее, оттащили к очагу, там разрубили на мелкие чурочки. А уж очистить от мелкого мусора и палых листьев влажный песок особого труда не составило.
- И что теперь? – огорчился Кирилл, когда глыба предстала перед ним во всей красе посреди пустого пространства.
Мне она доходила до пояса, сужалась к макушке тремя неровными гранями, отдаленно напоминая малых размеров египетскую пирамиду.
Кирилл обошел ее кругом, пнул пару раз, задумался, потом взял позаимствованную у Хасана Терентьевича лопату и принялся по периметру раскапывать. Оказалось, что пирамида сидит в мягкой почве не глубоко. Но, Боже ж ты мой, как ее сдвинуть с места, глыбу эту окаянную. Неужели нам придется отказаться и от этой мечты!
На наши громкие споры пришел из соседнего лагеря художник Анвар. Раздвинул ветки, заглянул внутрь со стороны тропинки.
- Что за шум?
Кирилл позвал его к нам. Анвар прошел дальше по тропе, миновал палатку, повернул назад от «кухни» и очутился возле нас.
- Ух, ты, какое местечко! – восхитился он.
- Местечко-то местечко, - согласился Кирилл, - да вот с этим чертом, что прикажете делать? - и он снова пнул ни в чем не повинный гранит.
- Да-а, конечно… - задумался Анвар, - а что, если разбить?
- Чем?
- Кувалдой. Кажется, у Алика возле очага есть кувалда.
Мимо по тропинке шли в свой лагерь Володя с Аней. Они тоже услышали наши разговоры и тоже завернули к нам.
- Ой, какое местечко! – всплеснула руками Аня, - а куда вы собираетесь деть эту махину?
Кирилл молча набрал воздух в грудную клетку и предоставил мне возможность обрисовать ситуацию.
- Нет, - обошел кругом пирамиды Володя, - кувалдой вы не разобьете. Тут и пытаться нечего. Гранит надо хорошо нагреть, тогда он сам расколется. Костер надо под ним развести.
- Да ты представляешь себе, какой нужен огонь! – рассердилась я, - мы же сожжем всю листву на дереве.
Все подняли головы и стали разглядывать нависающую над нами густую завесу кроны.
- Пожалуй, - неуверенно пробормотал Володя.
- Послушай, - повернулся к нему всем телом Кирилл, - я, можно сказать, теоретик, проектировщик, но ты! Ты же у нас инженер-строитель, неужели ты ничего не можешь придумать?
Володя смутился.
- Единственное, что я могу тебе посоветовать, поймай хасановского ишака, запряги, и пусть тащит.
Мы на Володю даже обиделись. Этот темно-коричневый, почти черный ишак был не тот, давний, серенький ослик. Этого не то, что гладить, этого видеть не хотелось. Злющая, вредная тварь бросалась на людей почище бешеной собаки, да так и норовила куснуть. Хорошо, Хасан Терентьевич крепко привязывал его к старому тополю. Мы недоумевали, зачем он держит такого страшного зверя, а он соглашался, мелко кивал головой и говорил, что уже нашелся покупатель, и скоро ишака заберут, да только вот покупатель все никак не появлялся на горизонте. А эта скотина продолжала кидаться и бежать за тобой, пока хватало веревки, и орать вслед во всю мощь луженой ослиной глотки
Уставшие и сердитые, мы бросили работу, оставили все, как есть, положились на мудрую поговорку - «утро вечера мудренее».
На другой день Сережа заспался. Наташа и я воспользовались случаем, повернулись на другой бок и погрузились в сладкое царство дремы. Сквозь сон я успела заметить, что Кирилла на месте нет.
Было около десяти часов утра, когда Сережа, наконец, проснулся. Мы еще немного повалялись, потом оделись и вылезли на белый свет.
В лагере тихо, в очаге перемигиваются угли, видно, чайник давно вскипел. Поискала глазами Кирилла, и увидела, что он спокойно сидит у стола. Но стол почему-то находится не на привычном месте, а гораздо дальше, под кленом. Подошла ближе. Муж пьет чай, и вид у него отрешенный, даже какой-то скучный. Я в первый момент ничего не могла сообразить.
В Ташкенте, у наших друзей Скворцовых, одно время жила ручная сова Дуся. Вадим подобрал ее, раненую. Сову выходили, но летать она уже не могла, и проводила дни в ванной комнате, а по ночам разгуливала по кухне, искала разложенные специально для нее кусочки мяса. И все знали, что у Скворцовых живет Дуся; с любопытством разглядывали ее, а она смотрела на людей круглыми желтыми глазами, спокойными и мудрыми, как у всякой совы.
Наша квартира располагалась в том же доме этажом ниже, и планировка была точно такая, как у Веры с Вадимом. И вот однажды пришли гости, но не к Скворцовым, к нам, и привели с собой сына, шестилетнего Данилу.
Как водится, сидим на кухне, ведем всякие разговоры. Внезапно вбегает Данил, испуганный, чуть не плачет, глаза круглые, как у той совы, и отчаянно на срыве кричит:
- А где Дуся???
Бедный ребенок спутал квартиры. Пришлось объяснять, вести на третий этаж, показывать целую и невредимую птицу.
Но это: «А где Дуся?» - прижилось.
Я подошла к Кириллу, заглянула под стол. Глаза мои широко открылись, я изумленно спросила:
- А где… Дуся?
Гранитная глыба, отдаленно напоминавшая египетскую пирамиду, исчезла. Вместо нее стоял стол с сервированным завтраком, нарезанным хлебом, чаем, остатками подсохшей колбасы и сливочного масла. С загадочно молчащим Кириллом в качестве приложения. Лишь плечиком изволили пожать:
- Исчезла.
- Выкатил ты ее, что ли?
Молчит. Огляделась – нигде ни поломанной ветки, ни следа потревоженного дерна.
Полдня он морочил всем голову, пока не заскочил проездом Саидберды.
Этот не стал гадать. Заглянул под стол, присел на корточки, погрузил руку в песок, пошарил там, потом поднялся.
- А-а, Кирилл, хитрый ты. Как все русские.
И тогда догадалась Аня, всплеснула руками.
- Ребята, он ее закопал! Точно!
- Господи, - всполошилась я, - это ж какую ямину тебе пришлось вырыть!
Но Саидберды не восхитился трудовым подвигом моего мужа.
- Да чего там рыть! Песок.
В эти дни наше общество стало редеть. Кончалось лето, пора было ехать по домам. На прощанье художники устроили вернисаж, расставили на поляне среди травы и камней наработанные этюды. Народу собралось довольно много, пришли журналисты с Большой поляны, семейство архитектора с двумя девчонками, беленькой и черненькой, лесники. Все ходили по неожиданной выставке, рассматривали картины и радовались, когда узнавали знакомые места. Теперь наш Акбулак был навсегда запечатлен в живописи. Потом все собрались под большим тополем и сфотографировались на память.
На другой день художники уехали, уехали Володя с Аней.
Накануне ушли пешком в Бричмуллу журналисты, еще через некоторое время мимо кордона проехал газик архитектора. Девочки высовывались из полуоткрытой машины, что-то кричали, размахивали руками. Мы ничего не расслышали и помахали им вслед.
Поднялись на кордон, и там никого. «Белый дом» на замке, тишина во дворе у Хасана Терентьевича. Мы остались совсем одни.
Спустились в лагерь, и нашли одиноко и грустно сидящего на пороге палатки Сережу, - уехала его маленькая подружка.
День проходил неторопливо. Мы долго сидели за обеденным столом, говорили о каких-то совершенно незначительных вещах. Никуда не хотелось идти, все дела были завершены. У нас был хороший запас дров, лагерь был до конца обустроен, а впереди еще две недели роскошной жизни в горах. Провиант нам должны были на днях привезти.
Солнце светило сдержанно, осыпало горы мягким золотым светом. Ветра не было, листья клена замерли в полном штиле, на нас напала истома. Никому не хотелось вставать, собирать посуду, идти с нею на берег.
Незаметно солнце переместилось к западу, а потом и вовсе упало за горы. По-осеннему рано стемнело, а чтобы нам не было скучно, в небе появилась ранняя, необычно светлая луна. Мы вышли на открытое место и сели вчетвером на недавно спиленный высохший тополь. Сидели тихо, жались друг к дружке, а кругом плыло, совершалось, царило привычное лунное колдовство.
- Представляете, - вдруг сказала Наташа, - на двадцать километров кругом нет ни одного человека.
- Тебе страшно? - спросила я.
- Скорее странно.
Пожалуй, она была права, это было странно, что вот трое взрослых и один ребенок сидят на бревне и смотрят на луну, на высокие горы. Наверху, по распадкам, по склонам бродят дикие звери, и нет ни одного человеческого существа. Я вдруг почувствовала, что моей дочке и внуку хочется прервать молчаливое созерцание и скорей укрыться в защитную тесноту палатки, озарив ее крохотный мир уютным светом фонарика.
Мы ушли в лагерь, уложили детей, большую и маленького, а сами, зажгли в новой «гостиной» лампу и сели у стола. Вот уже несколько дней мы никак не могли ею налюбоваться.
Мир сразу стеснился, и странно осветилась над нами, как кровля, густая, резная мозаика мелких листьев клена. Под столом покоилась закопанная в песок пирамида, будто на этом месте ее никогда и не было.
- А знаешь, - сказал Кирилл, - я не так оригинален, как ты думаешь, я где-то читал точно такую историю с каменной глыбой. Кому-то из русских царей она мешала прогуливаться, и ее решили убрать. Собрались умные головы, стали думать, как это сделать, была масса предложений – разбить, накалить и прочее. Все это требовало больших денег. Но тут пришел мужичок, скромный такой, из мещан (вот я точно помню, что из мещан), и предложил разрешить задачу всего за сто рублей. И разрешил.
- Закопал на месте?
- Да. Только та глыба была больше нашей, и ему пришлось нанимать рабочих. Не помню, где я читал этот рассказ…
- Постой, - подняла я руку, - слышишь?
Со стороны брода донесся шум, фыркнул конь, послышался голос Саидберды, он понуждал Ваську войти в воду. Как оказалось, мы были в горах не одни, просто не заметили, когда это он успел проехать мимо нас на свой кордон, а теперь возвращался.
Они переправились, и вскоре стук копыт прозвучал возле нашего лагеря.
- Смотрю, свет горит, значит, не спите, - заговорил где-то за кустами Саидберды.
Мы слышали, как он выбирается из седла, не спеша, идет в сторону палатки. Мы увидели его, лишь, когда он появился в светлом кругу, очерченном лампой.
- А вы хорошо устроились, - огляделся он.
- Садись, Саидберды, суп еще не остыл. Кушать будешь? – спросила я.
- Нет, поеду.
Он казался расстроенным. Выяснилось, пока он ездил в Бричмуллу, за Березовой рощей сел вертолет, какие-то военные сорвали с двери домика замок, устроили обыск, все перевернули, забрали патроны от ружья, нашли в кармане куртки и тоже зачем-то забрали старое удостоверение.
- Завтра в лесхоз пойду. Разгромили мне дом, бардак устроили. Скандал хочу поднять, тогда и посмотрим, кто здесь хозяин, - помолчал, озираясь, и вдруг заявил, - у вас даже сесть не на что.
- Как не на что! – возмутилась я, - не фокусничай. Или ты и сюда свое «кресло» потащишь?
И что вы думаете, вдвоем с Кириллом (я настояла, чтобы Саидберды один не надрывался) они волоком перетащили заветный камень и установили на новом месте. Только тогда Саидберды соблаговолил сесть и даже попросил напить чаем.
Потом он уехал в Бричмуллу, а мы остались и долго прислушивались, как постепенно затихает вдали неторопливый ход коня Васьки.
Мы потушили лампу, но остались сидеть у стола. Говорить ни о чем не хотелось. Привычно шумела река, звенели цикады, луна успела уйти за горы, возле корней клена светился крохотный фонарик светлячка. Было спокойно на душе, хотелось сидеть вот так в темноте долго, до утра, пока не затеплится над горами небо, пока не взойдет солнце.
Мы не знали, и даже предположить не могли, что эта ночь на Акбулаке последняя, что все наши хлопоты и волнения были напрасны, что зря Саидберды и Кирилл тащили на новое место камень.
Рано утром нас обнаружили военные люди с автоматами, и, после тщательной проверки документов, приказали немедленно уезжать. От них мы узнали, что со стороны охваченного гражданской войной Таджикистана движется в нашу сторону банда террористов, что теперь находиться в горах нельзя, опасно, и лучшее, что мы можем сделать для собственного блага, - снять палатку, собрать вещи и покинуть район возможных боевых действий.
Боевых действий… Надо же было такому случиться, чтобы это леденящее кровь словосочетание мы услышали на Акбулаке, где принято здороваться с незнакомыми людьми, где соседи по лагерю могли пригласить вас на плов или просто посидеть у костра, спеть под гитару и «Виноградную косточку», и «Леньку-короля», и «Солнышко лесное». Эх, да что говорить…
Поспешно, как попало, мы сняли и свернули палатку, покидали в машину вещи, усадили испуганного ребенка и уехали, даже не успев попрощаться с прекрасно обустроенным лагерем, рекой и нашими дорогими, любезными сердцу горами.
* * *
С тех пор прошло десять лет. На Майдантале мы больше не были, - проехать по старой горной дороге теперь не так-то просто. За деревянным мостом через Чаткал, на месте слияния его с Акбулаком, на протяжении двух или трех километров, вклинивается в узбекскую территорию участок границы с Киргизией, и ее тщательно охраняют. И на старом кордоне тоже стоят военные
Часто вспоминаем последний благоустроенный лагерь. Конечно, там снова все заросло, засыпано сухими ветками и прелой листвой, со всех сторон наползли на ровные площадки ежевичные плети, разросся куст шиповника. Где-то в этой чаще стоит никому не нужный камень, странно похожий на небольшое кресло с невысокой спинкой. Никогда не придет и не сядет на него наш старый приятель Саидберды, не расскажет новую смешную байку о неожиданной встрече с медведем.
Года два назад он навестил нас в Ташкенте, сообщил новости. Алик и Хасан Терентьевич на пенсии, сам он перешел работать в другое лесничество.
Я приготовила плов, мы хорошо посидели, вспомнили прошлое, передали с ним приветы всем бричмуллинским знакомым. Больше он к нам не приезжал.
Мы проводим каждое лето в маленьком городке, построенном в горах с другой стороны Чаткальского хребта в начале пятидесятых годов. Когда-то здесь жили шахтеры, теперь остались одни старики пенсионеры, да в жаркую пору слетаются со всего Узбекистана отдыхающие.
Там мы купили за бесценок квартиру на третьем этаже с двумя балконами, привели ее в порядок, отремонтировали своими силами, как могли, и по полгода живем в ней потихоньку.
С балконов видны горы, поросшие арчой, тополями, боярышником. Местами, кое-где, белеет стройный березовый ствол. Десять минут ходьбы, - и можно оказаться на берегу небольшой горной речки. Наташа часто приводит детей к запруде, и пока они, закаленные, плещутся в холодной воде, сидит на камне, смотрит на господствующую над городком вершину с языком не растаявшего снега, говорит:
- Как здесь хорошо! – и тут же добавляет, - но это не Акбулак.
Теперь она гордая мать троих детей, двух мальчиков и одной девочки. Дети растут, мы стареем. Часто в гости приезжает Петрович, он единственный, кто остался с нами от старого акбулакского братства. Остальные…
Кто в Москве, кто в Рязани, кто в далекой Тюмени. Чей-то след затерялся в Израиле, чей-то в Германии, Никита и вовсе оказался на другой стороне земли, в Америке, а кого-то уже и на свете нет.
Но не стану я говорить – кого. Пусть они продолжают жить в моем прекрасном нетленном мире.
Ташкент – Янгиабад
2009 год.
Сконвертировано и опубликовано на http://SamoLit.com/