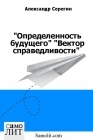Александр Серёгин.
Определенность будущего
Книга первая
«Движение к справедливости –
вектор эволюции»
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая палками и камнями.
Альберт Эйнштейн
Пролог
Попытки представить жизнь человека на планете Земля, как некую систему, имеющую закономерности многочисленны. Но если это действительно так, то значит должны быть возможности прогнозировать её будущее. Цитата Эйнштейна, приведенная выше и есть такая попытка.Мы прекрасно понимаем, по каким причинам великий физик сделал такой прогноз.
Человечество не оставляет надежд понять почему именно так, а не иначе протекала история в прошлом и на основании этого представить, как могут развиваться события в будущем. Простая экстраполяция не дает удовлетворительных результатов, часто прогнозы получаются просто смешными. Насколько они возможны, существует ли определенность будущего?
Человеческое общество – это сложная самоорганизующаяся система. Эволюция таких систем, согласно математическим представлениям, не может быть предсказана с абсолютной точностью. Это связано, во-первых, с тем что ввиду особой сложности этих систем возникает проблема неполноты информации о состоянии всех подсистем и элементов их составляющих, то есть получить абсолютно полную информацию фактически невозможно. Из этой проблемы вырастает другая, красиво названная Эдвардом Лоренцом «эффектом бабочки». Сложные системы особо чувствительны к начальным условиям, поэтому малейшая ошибка в начале расчета приводит к колоссальным отклонениям в результате. Лоренц, занимавшийся метеорологией, говорил, что взмах крыла бабочки где-нибудь в Бразилии может вызвать торнадо за тысячи километров, где-нибудь в Техасе. То есть, если мы сделаем ошибку в описании первичного состояния системы, то точность прогноза состояния системы через три дня уже будет под сомнением, а уж о трех годах и тем более десятилетиях и говорить нечего. Придумали даже термин характеризующий непредсказуемость сложных систем – стохастичность.
Такие сложные системы, математически, лучше всего описываются в теории хаоса и одна из парадигм синергетики – парадигма динамического хаоса, то есть утверждение, что сложные самоорганизующиеся системы, как раз и находятся в таком состоянии. Результатом исследований в рамках этой парадигмы является утверждение, что существуют пределы предсказуемости. Есть некий горизонт прогнозов, за который мы не в силах заглянуть.
Это утверждение с одной стороны имеет налет пессимизма, но с другой оно полно оптимизма, значит что-то всё-таки нам можно прогнозировать, что-то можно предсказать. Дело в том, что такие системы, как например наше человеческое общество основаны на преемственности прошлых и будущих событий. Эта связь неразрывна, будущее не может существовать без прошлого, оно в нем конструируется. Что это действительно так можно проследить на простых примерах.
Например, мы можем утверждать, что в будущем ни газ, ни нефть не будут основными источниками получения энергии на планете Земля. Их запасы ограничены и в уже обозримом будущем они должны уступить первенство. Мы также можем с высокой степенью вероятности утверждать, что человек не вернется к экономике собирательства и охоты. Полностью, к сожалению, этого исключать нельзя, но вероятность такого события очень мала. Для того чтобы это произошло, население планеты должно уменьшиться до десятка миллионов. Наша планета без технологий больше людей просто не сможет прокормить. Сегодня нас на Земле более семи миллиардов, как вы понимаете должно произойти что-то очень неординарное, чтобы на Земле осталось жить меньше десятка миллионов человеческих особей.
Такие прогнозы носят чаще всего признаки отрицания, апофатичности, то есть проще предсказать то, чего не будет, чем пытаться описывать события будущего. Однако можно получить и позитивные прогнозы, например, в будущем обязательно будет медицина. Это так, потому что человек, с учетом накопившегося в нас «генетического мусора», как вид просто не сможет без неё существовать, а тем более развиваться. Мы не сможем сопротивляться всем болезням, которые нас окружают без медицинской помощи. Мы уже много чего натворили в прошлом, поэтому нам невозможно организовывать будущее без учета всего этого.
Можно сказать, что будущее и прошлое имеет общую конструкцию, тем самым, зная прошлое, можно пытаться прогнозировать будущее, особенно если удается проследить исторические закономерности развития. Конечно, это не может быть простой экстраполяцией, самоорганизующиеся системы имеют сложную конструкцию, что обычно выливается в нелинейность их развития. Однако важнейшим фактором является сам факт самоорганизации. Одна из его характерных особенностей это коллективное поведение. Несмотря на то, что мы хаотично взаимодействуем между собой, на определенном этапе наступает доминирование одной из групп элементов, которая на некоторое время, определяет дирекцию движения всей системы, то есть хаос в какой-то степени перестает быть таковым и обретает черты определенного порядка.
В математической теории хаоса возможные варианты развития определяются, так называемыми аттракторами, то есть некоторыми компактными подмножествами, в область которых стремятся траектории системы. Причем даже в фазе неустойчивости количество аттракторов всегда конечно и обычно невелико, то есть система будет вести себя относительно предсказуемо, во всяком случае, с ней не может произойти всё что угодно.
Разнонаправленные личностные векторы получают результирующий общественный вектор, который для них становится преобладающим, единичные личностные векторы притягиваются к нему и таким образом формируется аттрактор. Само название этих подмножеств происходит от английского attract – привлекать, притягивать.
Наша эволюция всё больше зависит от действий человека, хотя внешний природный фактор нельзя отрицать, он очень силен. Но мы уже осознаем, что множество важнейших элементов нашего прогресса генерируется самим человеком. Исследуя человека, его историю, психологию его поведения, открывая закономерности его поступков можно усовершенствовать процесс прогнозирования и постепенно удалять всё дальше горизонт возможностей.
Без сомнения, мы не можем с точностью прогнозировать самого главного, реально ли вообще выжить видуhomosapience на планете Земля или за её пределами? Этот вопрос, вероятно, всегда будет находиться за горизонтом возможностей. Но знание, что наше общество находится «на кромке хаоса», что такие сложные самоорганизующиеся системы как человеческий социум при определенных условиях склонны к катастрофическому развитию может быть остудит горячие головы, которые требуют денег, власти и готовы к агрессии. Мы можем и должны конструировать своё будущее с учетом того, что ходим по лезвию ножа.
Мы действительно ходим по краю пропасти, это связано, как с человеческим фактором, так и с нашей огромной зависимостью от внешних обстоятельств и это касается не только настоящего времени, так было всегда. Эйфория вседозволенности в изменении природы, которая господствовала с конца девятнадцатого века почти до конца двадцатого, сменилась другой глупостью – страхом перед всесильностью человека. Появились массовые психозы озоновых дыр и глобального потепления, полученных якобы в результате человеческой деятельности. Нас уверили в том, что человек уже сейчас способен влиять на события космического масштаба. На самом деле это далеко не так, наша сила пока несопоставима с силами Вселенной и главная проблема в том, что мы не только слабее этих сил, а в том, что мы в большинстве случаев просто не знаем какие они и чего от них ждать. Мы только начинаем догадываться, что они собой представляют, но поделать с ними почти еще ничего не можем. Это касается многих глобальных явлений нашей планетарной системы, например, изменений траекторий движения планет, в том числе Земли, изменения наклона оси вращения нашей планеты, перемещения её магнитного поля. Мы только догадываемся, как устроено Солнце и с чем связано изменение интенсивности его излучений. Всё это намного сильнее влияет на жизнь планеты Земля, чем деятельность человека. Наша зависимость огромна, что уж говорить, достаточно вспомнить множество астероидов и комет постоянно пролетающих мимо. Писаная история человечество простирается в глубины нашего существования всего на несколько тысячелетий, но планета существует миллиарды лет и пережила множество катастроф, кое-что мы об этом знаем, кое о чем только догадываемся и пока нам везет.
Несмотря на весьма пессимистический предыдущий абзац нельзя не заметить, что за последние двести лет человек очень сильно увеличил своё влияние на природу. Мы реально её изменяем, плохо это или хорошо вопрос сложный и мы будем пытаться рассматривать его ниже. Важно то, что мы осознаем, что мы можем конструировать, конечно в определенных пределах, окружающие нас условия, мы можем конструировать своё общество.
Чтобы понимать, что происходит вокруг нас, мы создали науку. Особенно строгое и ясное осознание приходит к нам из мира математики, наверное поэтому мы склонны создавать различные математические модели для самых разнообразных процессов природы, включая общественные. Строго говоря, любая математическая модель всегда неточна. Чтобы её создать прибегают к упрощениям, отклонениям от реальности, но именно это и роднит её с человеком. Дело в том, что любой из нас, рассматривая какой-нибудь предмет, никогда в своем мозге не описывает его в точности. Он лишь создает некий образ, который соответствует этому предмету. Это, кстати, пока остается непреодолимым препятствием для создания искусственного интеллекта на основе вычислительных машин, компьютер не любит не точностей, он не умеет мыслить образно.
Для нас же создание математических моделей, которые фактически являются образами нужных нам процессов, большое подспорье в понимании природы. Именно поэтому мы применяем математические и физические понятия, например, к общественным процессам.
Профессор Назаретян в своих работах [«Цивилизационные кризисы в контексте универсальной истории», «Нелинейное будущее»] считает, что прогресс социума можно представить в виде движения по определенным векторам. Применение понятия вектора здесь совсем не случайно. Вектор обладает не только направлением и величиной, он обладает способностью складываться. Можно представить, как некий образ, что социум состоит из множества личностных векторов, различных по силе и направленности. Результирующий вектор всех этих направленных сил, как раз и выразит направление и скорость движения всего общества. Имея такую модель, мы можем рассуждать о системе, сложной самоорганизующейся системе. Она без сомнения не так проста, как простое геометрическое сложение отдельных векторов. В ней вектора погибают, рождаются, со временем становятся сильнее или слабее, меняют направление, влияют друг на друга, группируются. Более того, каждая личность, как и весь социум характеризуется не одним вектором, а многими. Это и вектор роста уровня технологий, уровня интеллекта, организационной сложности... их достаточно много, каждый влияет на будущее положение общества. Практически отследить всетонкости этих событий невозможно, но исследовать процесс формирования результирующего вектора, его историческое развитие, вероятно, это задача не такая уж непосильная.
Общий характер движения социума на отдельных, достаточно коротких, с точки зрения Великой истории, временных отрезках отличается хаотичностью и неопределенностью. Такое движение может характеризоваться отклонениями от основного направления, неравномерной скоростью, даже возвратами к прежним формам цивилизации, это часто вызывало желание утвердить различные теории, основанные на циклах. Доказать, что направление результирующего вектора не изменяется задача сложная. Эту направленность можно заметить, лишь приподнявшись над ситуацией на определенную высоту, с которой течение истории будет представляться «мелкомасштабной картой». При этом огромное разнообразие проявлений человеческих взаимоотношений, их видимая вблизи хаотичность становятся малозаметными. Именно с этой высоты прослеживаются стратегические закономерности, видны векторы неуклонного движения человечества в определенных направлениях.
Наличие таких векторов даже подсознательно замечается людьми и вряд ли может вызывать сомнения, вопрос состоит скорее в том, сколько их и какие они? Практически не требуют доказательства векторы роста технологической мощи или демографического роста, не так очевидны, но очень вероятны векторы роста организационной сложности общества и роста социального и индивидуального интеллекта, но можно ли рассматривать, как вектор прогресса, движение человека к справедливости?
Вероятно, сделать это крайне сложно ввиду многогранности самого понятия справедливости. Для того чтобы попытаться ответить на этот вопрос необходимо исследовать исторические изменения этой категории общественной жизни на протяжении эпох, во время которых человек осознавал себя как личность. Векторность предполагает сохранение направления усилий на отрезке действия. Если вектор представлять, как направленную силу, то в случае со справедливостью в социуме, это видимо усилия людей направленные на изменения состояния этого феномена. Имеются ли такие изменения, каковы они, имеют ли они общую тенденцию, вот что необходимо выяснить. Цель книги, которую вы сейчас читаете – показать, что наши представления о справедливости перманентно изменяются, причем в определенномстратегическом направлении.
*****
Поиск справедливости постоянная тема для философов с момента осознания человеком себя, как личности. Конфуций и Мо-цзы в древнем Китае, Заратуштра в Персии, Сократ, Платон и Аристотель в древней Греции, древние философы индуизма и Древнего Рима, все они пытались прояснить роль и сущность справедливости. Несмотря на прошедшие века и даже тысячелетия, всё осталось по-прежнему – концепции, теории справедливости пишутся до сегодняшнего дня, лишь понимание этого феномена изменяется. Вероятно что-то из того, что сегодня мы называем справедливым, через сотню, может и десяток лет будет уверенно называться несправедливым, так как нам сейчас не кажутся справедливыми рабство, исключительное право силы или неравенство женщин.
В современных общих определениях справедливости больших противоречий нет. Её сущность обычно определяют, как представление о том, как должно быть, то есть нечто «должное». Согласуется ли оцениваемое положение с установленными нормами и правилами? Правила принимаются людьми и поэтому понятие справедливости субъективно, его внутреннее наполнение изменяется в зависимости от структуры мышления людей, от господствующей морали, от организационной конструкции общества. Справедливость не является категорией существующей вне сознания человека и рождается только в процессе общения и осознания взаимности существования.
Мы пока не будем говорить об абсолютной справедливости, её объективности, теоретической возможности существования, к этому вопросу мы обратимся в самом конце книги. Для начала мы применительно к каждой эпохе рассмотрим фактически существовавшую на то время мораль, те этические нормы, которые вытекали из неё.
Попробуем рассмотреть справедливость с качественной стороны и с точки зрения её конструкции, то есть, что на определенном историческом этапе можно определить, как «должное» и как принятые в это время моральные и юридические нормы выполняются фактически. Необходимо заметить, что само понятие «должного» для современников, даже проживающих в одном регионе, часто бывает весьма разным. Интеллектуальная элита в своей среде обычно имела представления несовпадающие с мнением, например, рядовых горожан или крестьян. Однако в этих различиях прослеживается строгая тенденция – рядовые граждане принимают элитарное понимание «должного» часто в том же виде, но позже, через какой-то период времени, иногда весьма длительный. То есть в разных группах населения одной и той же страны одни и те же нормы морали становятся приемлемыми в разное время.
Аналогичная ситуация прослеживается и на международной арене, нормы морали принятые в разных государствах существенно отличаются. Нам кажется, что это разные подходы к справедливости, связанные с этническими, культурными, религиозными особенностями народов. При основательном, глубоком анализе суть расхождений оказывается иной. Профессор Назаретян утверждает: «При этом так называемый конфликт цивилизаций в большинстве случаев на поверку оказывается конфликтом исторических эпох.»[38] То есть расхождение в понимании концепций справедливости на поверку оказывается простым отставанием в развитии понятия «должного».
Мы постараемся сравнить справедливость разных эпох. Оценивать её будем сразу в двух плоскостях: во-первых, какой была мораль изучаемой эпохи, из каких элементов состояла конструкция справедливости; во-вторых, как выглядит эта справедливость с точки зрения норм современного нам общества, которое часто называют постиндустриальным, а теперь уже и информационным. Мы рассмотрим, какие были представления о справедливости у современников интересующих нас эпох и какими они видятся с точки зрения нашего времени, причем именно западного постиндустриального общества, а не любого другого современного нам.
Для сравнения выберем исторические этапы отталкиваясь от классификации И.М. Дьяконова [«Пути истории. От древнейшего человека до наших дней»]. Эта классификация подвергалась жесткой критике за то, что к определению границ эпох не применялся единый критерий, вероятно это правильная критика. Однако разделение истории человечества на восемь фаз представляется весьма логичным, только лишь названия были выбраны не совсем удачно. Каждая из фаз характеризуется целым набором специфических признаков. Они касаются разных сфер: экономических, социальных отношений, культурной специфики. Дьяконов выбрал просто наиболее характерные с его точки зрения признаки, но из разных сфер, которые и легли в основу названия фазы. Видимо поэтому специфичность каждой фазы была подчеркнута, но не удалось выдержать единую линию в выборе наименований. Тем не менее, фазы достаточно удачно определены и разграничены.
Хотя граница фаз исторического развития это очень размытая категория, которую невозможно определить, как точку во времени, можно лишь выделять фазовые переходы, да и то они могут исчисляться сотнями лет. Кроме этого разные регионы планеты проходили разные фазы в разное время, это наглядно видно до сих пор, некоторые народы и сейчас находятся на этапах первобытнообщинных или средневековых.
Рассмотрение конструкций справедливости в фазах Первобытной и Первобытнообщинной не имеет особого смысла, подробнее об этом будет сказано ниже. Для удобства последующие фазы Дьяконова объединим попарно – Ранняя древность и Имперская древность, объединятся в общий объект исследования. Объединим Средневековье со Стабильно-абсолютистским средневековьем, также поступим с Капиталистической и Посткапиталистической фазой. Объектами сравнения у нас будут три обобщенные исторические эпохи, которые мы назовем: Древность, Средневековье и третья, которую мы назовем Новое время, чтобы не изменять критерий классификации. Такое упрощение должно существенно улучшить качество результатов исследования, так как изменения параметров будут лучше видны при сравнении более длительных исторических периодов.
Как основные рассматриваемые параметры выберем свободу, права человека, неравенство и возможности личности, именно они наиболее существенно влияют на формирование морали, этических правил, то есть определения справедливости.Они будут рассматриваться в политической, экономической, социальной и культурной областях. В этих областях мы рассмотрим и сравним различные виды свобод и прав человека. Во всех трех эпохах рассмотрим положение с личной свободой, свободой занимать должности и высокое положение в обществе, свободой слова и совести, а также правами женщин, детей, избирательным правом, правом участвовать в управлении, гражданскими правами в более широком смысле, например, правами иностранцев. Мы рассмотрим право собственности и экономическое неравенство.
Разумеется, что этими параметрами оценка справедливости общества не может быть ограничена, но даже этот неполный набор, с моей точки зрения, позволит получить определенность в наличии или отсутствии вектора справедливости.
§ 1 Осознание личности, совесть. Конструкции начальной справедливости
Определить точный временной отрезок, относящийся к этому термину достаточно трудно, так как Древность – это скорее состояние общества, чем конкретный исторический период. В разных частях планеты начало и конец древности происходили в разное время, поэтому мы оцениваем состояние справедливости не в какой-то конкретный временной период, а на определенной стадии развития общества.
Начальный период древности невозможно оценивать с позиций справедливости. Вероятно этого понятия в различных региональных социумах не существовало вовсе, не говоря о народах, не дошедших до такого высокого уровня организации общества, как государство. «…свобода личности была чужда этой фазе человеческой истории…» пишет Дьяконов о первобытнообщинном строе, это тем более справедливо для ранней древности. Даже религии того периода не имели этической составляющей.
Устойчивое осознание справедливости видимо появилось лишь во времена называемые Карлом Ясперсом «Осевое время». [Карл Ясперс «Смысл и назначение истории»]. Именно тогда человек начал осознавать себя как личность, появился феномен совести и нормы морали, опирающиеся не только на религиозные догмы, на религию, в которой появились элементы этики, но и на осознание сущности человека. «В осевое время произошло открытие того, что позже стало называться разумом и личностью». [58] Человек отделил себя от своей социальной роли и начал делать попытки вырваться из этих тесных рамок, которые закрепощали его, не давали ему возможности изменяться на протяжении жизни, быть разным.
Только во взаимоотношениях личностей, обладающих феноменом совести, могло возникнуть понятие справедливости. До Осевого времени не былосветских, нерелигиозных моральных критериев,которые бы определяли, что можно рассматривать, как «должное», а что нет. Например, в древнем Египте справедливость олицетворяла богиня Маат, именно её жрецы определяли, что справедливо, а что нет. Религиозная справедливость отличалась примитивностью и не учитывала человеческий фактор. Определение «должного» ассоциировалось с религиозной догмой и не было предметом осмысления, рефлексии.
Религия в древние времена играла ключевую роль в определении справедливости. В Персии Заратуштра упоминает справедливость в применении к божьему суду. К суду, который будет справедливым после смерти человека, когда его душа пойдет через мост Чинват на небо. Именно тогда там справедливо рассудят, чего он достоин – пути в ад или в рай.
Конфуций в Китае априори справедливым считал естественный текучий порядок событий, хотя одновременно признавалось, что вокруг творится несправедливость. Для борьбы с ней он пытался создать идеал рыцаря добродетели, который борется за высокую мораль согласно концепции «Чего не хочешь себе, того не делай другим», но сам Конфуций был убежден, что такая мораль доступна только благородным людям высшего сословия и недоступна простолюдинам. Мо-цзы, последователь и одновременно противник Конфуция, пошел несколько дальше и был уверен, что справедливо поступает лишь тот, кто приносит людям пользу, а тот, кто причиняет им вред, не может быть справедливым. Причиной же всех бед и беспорядков Мо-цзы считал эгоизм, а главной добродетелью взаимное уважение и всеобщую любовь. Ученик Конфуция Мен-цзы развил учение, настаивая на природности доброты человека, поэтому для правления народом, справедливым он считал принцип гуманного управления, а не силового.
Понятие справедливости у восточных мыслителей Осевого времени, уже признавало личность, но не представляло собой строгую конструкцию, в которой точно можно вычленить отдельные элементы. Эллинистические философы Сократ, Платон и наконец, Аристотель, продвинулись дальше в конструктивности и определениях сущности справедливости. Платоном была высказана первая фундаментальная концепция справедливости, как социального явления, Аристотель детализировал её сущность, разделил на два вида – уравнительную и распределительную.
Но особенностью справедливости тех времен было её подчеркнуто избирательное применение, она существовала, но не для всех. Всё общество было строго разделено и крайне поляризовано, в первую очередь это касалось людей из других краёв. «Еще в Вавилонии начала второго тысячелетия до н.э. не было выражения «чужая страна», «заграница», а было выражение «вражеская страна»…[19] Все люди строго делились на своих и чужих, причем, как в случае с вавилонянами, чужие были не просто другими, чужими людьми, а всегда врагами. Понятие справедливости могло относиться только к своим – к людям одного сообщества.
Разделение проходило не только между чужими и своими, но и внутри «своих» – одни были свободными, другие нет. Раб в древности явление очень распространенное, но понятие не всегда однозначное. Недостаточная эффективность оружия не позволяла содержать много рабов, охрана была малоэффективна. Совершенно бесправный раб – нерентабельная инвестиция, потому что для его содержания и охраны средств могло, уходить не меньше, чем доход от его работы. Поэтому рабам, лично зависимым людям, давали некоторую степень свободы – наделяли жилищем, участком земли, орудиями труда, иногда даже разрешали заводить семью. Это позволяло увеличивать рентабельность рабского труда, и одновременно приближало их образ жизни к жизни обычных граждан, но всё равно все эти люди не попадали под действие понятия справедливость.
Аристотель в своей «Большой этике» пишет: «Говорят, что есть место для справедливости в отношениях слуги к господину и сына к отцу. Но справедливое тут, по-видимому, лишь омоним к справедливому между гражданами государства». [3] Для него, справедливость применимая для раба, имеет совсем другое содержание. «Ведь не одно и то же справедливо для слуги и для свободного: если слуга ударит свободного, справедливо ответить не ударом, а многими…» [3] Справедливость, считает Аристотель, должна иметь место только лишь между гражданами, то есть свободными, взрослыми мужчинами. Под это понятие не попадают женщины и дети: «Сын — это как бы некая часть отца, пока он не встанет в разряд взрослых мужчин и не отделится от отца». [3] О дочерях вообще не вспоминается, так как они по положению не только ниже граждан мужчин, но и ниже сыновей и взрослых свободных женщин.
Детей в древности не выделяли из ряда остальных людей, они считались, кем-то вроде неполноценных особей мужского или женского рода, в них никто не видел личностей. «Только в XVII веке произошло «открытие детства», ребенок из недоразвитого человека стал превращаться в актуально и потенциально другого, и не просто другого, а носителя лучшего будущего». [37]
Женщины тоже не считались полноценными людьми, несмотря на то, что Аристотель пишет: «Жена ниже мужа, но очень близка ему и в наибольшей мере причастна его равенству, поэтому жизнь их близка к общению, которое имеет место среди граждан…» [3] Все эти оговорки – «причастна к равенству», «близка к общению» подчеркивают гендерную дискриминацию. Женщины в Древности, вне зависимости от возраста, почти всегда по положению ниже мужчин даже, если они формально свободны. Они не являются законными гражданами и понятие справедливости на них в полной мере не распространяется. Они не имеют права голоса на выборах и тем более права занимать общественные должности. Иногда наблюдались исключения, но они только подчеркивали правило.
Особой категорией населения являлись иностранцы. Даже после того, как люди перестали воспринимать пришельцев из других стран, как врагов по определению, их положение оставалось промежуточным между рабами и свободными гражданами. Понятие справедливости также не распространялось на эту, хотя и немногочисленную, категорию населения. Даже послы иностранных правителей воспринимались, как люди второго сорта. Только полная ассимиляция давала возможность бывшему иностранцу получить права гражданина.
Но даже в среде политически равных людей, среди философов считалось справедливым, чтобы в управлении обществом участвовал не любой гражданин, а только принадлежащий к категории избранных, к аристократии. Допускать же человека из низшего сословия, с «душой еще далекой от совершенства»[41], к управлению людьми и государством, было бы непростительной ошибкой, считает Платон в своем «Государстве».
Из выше сказанного видно, как сильно отличается видение справедливости древними людьми, даже самыми передовыми, с тем, что привычно для нас сейчас. Во-первых, справедливость имеет отношение только к определенному классу людей. Для большинства населения: женщин, детей, рабов – понятие справедливости не применяется вообще, она даже не декларируется формально. Все эти люди не получают её ни при рождении, ни по заслугам, они ничего не могут изменить в своем положении, чаще всего это их пожизненный удел.
Рабы не имеют никаких свобод и соответственно прав. Свободные женщины и дети имеют личную свободу, но фактически не имеют никаких других прав и свобод. Граждане имеют личную свободу, часть вторичных свобод, например, свободу слова, передвижения, но лишь немногие имеют доступ к высокому положению в обществе, право участвовать в управлении обществом. Большинство из них не могут быть избранными в руководство, а зачастую не имеют даже права избирать из-за вводимых имущественных цензов.
Свобода личности понимается весьма своеобразно. Право отдельной личности всегда рассматривается ниже государственных интересов. Человек имеет большие права только лишь, как выборщик, как член народного собрания, но вне его рамок он остается бесправным. Его права не регулируются ясными законами. Законы не кодифицированы и обычно описывают право на действие власти, но не право на защиту личности, отсутствует презумпция невиновности. Человек беззащитен перед толпой, собранием или властью в лице представителей народа, не говоря уже о защите перед монархами тиранами. Неравенство возведено в культ и считается неотъемлемым признаком справедливости.
С точки зрения морали современного постиндустриального общества положение со справедливостью в Древности не выдерживает никакой критики. Ни в одной из сфер справедливости, которые мы рассматриваем, то есть: политической, экономической, социальной и культурной нет даже приближения к современной норме. Подорвана сама основа справедливости – достаточно большое количество людей не имеют личной свободы, более того, рабство считается общественной нормой и никто не застрахован от него.
Политические свободы не гарантированы даже для тех людей, которые имеют статус граждан, не говоря уже о женщинах и рабах. Не толькофактически, но и формальноотсутствует равенство перед закономдаже среди граждан, более того законы не определены, как система. Общество в основном управляется по традициям, право, как система появится только в Древнем Риме. Справедливость по закону еще очень редкое явление.
Избирательное право в демократиях в самом зачаточном состоянии, но там где оно присутствует, распространяется только на мужчин и то не на всех, а лишь на тех, кто имеет статус гражданина, часто с ограничениями по имущественному цензу. В большинстве стран правят монархи, в этих государствах справедливость олицетворяется с властью, которая получает легитимность благодаря религии, никакой связи с естественными правами человека.
Нет никаких гарантий свободы слова.О свободе совести в большинстве социумов либо вообще не задумываются либо относятся к религии, как к политике государства – тот, кто не поддерживает государственную религию, автоматически становится чужим, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Слова «равенство» и «равноправие» в применении к справедливости в обществе практически не используются. Даже у философов этому не придается особого значения, например, у Платона в его знаменитом «Государстве» слова «равенство» и «неравенство» применяются лишь несколько раз и несут подсобный характер, слово «равноправие» не применяется ни разу.
Только Аристотель, ученик Платона и последователь Сократа, рассуждая о справедливости, впервые рассматривает равенство, как её суть: «Справедливое по отношению к другому есть, собственно говоря, равенство (to ison). В самом деле, несправедливое — это неравное: когда люди наделяют себя хорошими вещами больше, а плохими меньше, то тут имеет место неравенство, и принято думать, что таким путем совершают несправедливость и подвергаются ей. Итак, если несправедливость сводится к неравенству, то очевидно, что справедливость и справедливое состоят в равенстве обязательств (symbolaioi))».[3]
Но его равенство не похоже на равенство в современном понимании, во всяком случае, оно не является лозунгом всеобщей справедливости. В «Большой этике» Аристотель пишет: «Справедливость, которую мы исследуем,— это гражданская справедливость, то есть она больше всего сводится к равенству (ведь граждане — это своего рода «общники» и по природе стремятся к равенству, но различаются нравом), в отношениях же сына к отцу и слуги к господину нет, как нам кажется, ничего от такой справедливости». [3]
Более того, гражданское равенство в представлениях Аристотеля по сути не всегда есть равенство. Он рассуждает о пропорциональности равенства: «Дружба, основанная на неравенстве,— это дружба отца и сына, подчиненного и начальника, лучшего и худшего, жены и мужа; и вообще она имеет место всюду, где между друзьями есть низшая и высшая ступень. Такая дружба в неравенстве предполагает пропорциональность. Так, при раздаче добра никто не уделит равное лучшему и худшему, но всегда даст больше тому, кто имеет преимущество. Этим достигается пропорциональное равенство: в каком-то отношении худший, получив меньше добра, равняется с лучшим, получившим больше» [3]. В данном примере речь идет лишь об экономическом неравенстве, но Аристотель эту «пропорциональность равенства» переносит на все сферы жизни.
Это одни из первых попыток каким-то образом объяснить существующее неравенство. В религиозной этике этим не занимались, неравенство просто констатировалось, как божественная воля. Коренное отличие этих рассуждений от сегодняшний представлений, состоит в том, что равенство не имеет сфер, в которых оно представляется абсолютно справедливым, например, в политической или культурной. Справедливость в понимании современного постиндустриального общества обязательно включает всеобщее равенство в политике и культуре. Во всех цивилизованных странах невозможна дискриминация по национальному признаку, политическим взглядам или по гендерным признакам. Фактически, конечно, существуют отклонения, но формально на уровне деклараций этого быть не должно, а если есть, то такая ситуация не считается справедливой.
В современном обществе пока невозможно равенство в социальной и экономической сфере, но этот вопрос является предметом постоянного обсуждения. В древности вопрос экономической справедливости не поднимается вообще. Эта сфера оставлена на волю богов и не анализируется, экономика, как наука пока еще не существует, теоретические основы хозяйствования находятся в зачаточном состоянии. Математика – основа экономики, ограничивается самыми простыми разделами: арифметикой, простейшей геометрией. Понятия экономическая свобода не существует в принципе, поэтому обсуждать её в контексте той епохи не имеет ни малейшего смысла.
§ 2 Итоги борьбы за справедливость в Древности
Подводя краткий итог рассуждениям о справедливости в древнем обществе можно отметить, что с точки зрения морали постиндустриального общества положение, как отдельного человека, так и народа в целом, перед властью абсолютно бесправно и несправедливо. Подавляющая часть населения либо не имеет свобод, либо не имеет прав занимать высокое положение в социуме. Неравенство является естественным элементом жизни общества, без него не мыслятся нормальные взаимоотношения людей. Рабство не просто существует, а является нормой, возникшее чувство совести не воспринимает его, как элемент несправедливости.
Ни в одной из сфер справедливости: политической, экономической, социальной или культурной нет целостной картины. Справедливость является выборочной даже в политической и культурной сфере, не говоря уже о сферах экономической и социальной. Тем не менее, легко прослеживается развитие, векторность справедливости. В начале эпохи Древности справедливость отсутствует, как понятие, нет четкой идентификации человека, как личности, нет феномена совести, без которого понятие справедливости теряет всякую основу. К началу фазового перехода к Средневековью на лицо прогресс как минимум в теории. Появляется свобода, как термин, как понятие, по утверждению Дьяконова, это произошло в Афинах.«Именно здесь впервые выработалось понятие «свобода» (eleutheria), означавшее полную независимость индивида; все формы зависимости, в том числе всякое подчинение царской власти (вместо характерного для греков общинно-городского самоуправления), квалифицировались греками как «рабство» (doulosyne)». [19]
Справедливость становится одной из важнейших категорий социальной жизни. Умы философов заняты вопросами: какая может быть справедливость, почему текущая ситуация не позволяет внедрить понятие справедливости во все аспекты жизни? К справедливости начинают взывать даже рядовые граждане, возникает понятие права, как одно из основных при оценке справедливости. Возникает юриспруденция, к III веку н.э. римское право коренным образом отличается от норм судов выносящих вердикты на основе религиозных догм. Ульпиан, выдающийся юрист Древнего Рима, назвал юриспруденцию «наукой о справедливом и несправедливом, цель которой заключается в наделении каждого человека его правом». На пороге Средневековья человечество предстает перед нами, как общество, в котором справедливость становится одним из тех идеалов, к которым стремится человек.
§ 1 Комплекс несправедливости
Феномен справедливости играет огромную роль в прогрессе общества и особенно в фазовых переходах между эпохами. Как считал И.М.Дьяконов, одним из главных факторов порождения фазового перехода есть возникновение именно «социально-психологического комплекса несправедливости». Процесс перестройки общества может проходить, как снизу, так и сверху, важно, что людей не удовлетворяет состояние справедливости в конкретное время и в конкретном месте.
При переходе к Средневековью, одним из поводов для такой неудовлетворенности стала невиданная ранее централизация власти, она не давала двигаться вперед. Это подтверждает Дьяконов в работе «Пути истории». «Крайняя централизация управления, усиливавшаяся даже в Римской империи, но особенно явная в Китае… сдерживала, развитие производительных сил». [19] Централизация власти не только негативно влияла на экономику, но и усиливала дискриминацию в политике и культуре. Комплекс несправедливости распространялся среди населения, при этом формальная конструкция справедливости могла и не меняться, но от невозможности двигаться вперед люди разочаровывались в жизни, не оправдывались их ожидания. Рассчитывая на улучшение своего экономического и социального положения, они получалитолько разочарование.
Рассматривать движение по вектору справедливости в эпоху Средневековья, не менее интересно, чем в Древности. Несмотря на все различия в течении процесса в этих эпохах, можно заметить и общие признаки. Например, в начале каждого из периодов происходит откат назад в понимании, что такое справедливость, (забегая наперед, замечу, что это можно отметить и для начала эпохи капитализма, то есть Нового времени). Если в Древности человек начинал с «нулевого значения» справедливости, то в начале Средневековья состоялся возврат, если не к «нулевому значению», то как минимум на порядок назад.
Этика основанная на самосознании снова заменяется догмой, человеческая личность, ценность которой начали понимать к концу эпохи Древности, снова низводится до ничтожной структурной единицы. «Первым диагностическим признаком пятой, средневековой фазы исторического процесса является превращение этических норм в догматические и прозелитические (а также из оппозиционных в господствующие), причем строжайшее исполнение догм обеспечивается государством и организованной межгосударственной и надгосударственной церковью, а нормативная этика теперь толкуется в смысле освящения общественного устройства, господствовавшего в тогдашнем мире (а по существу в некоем огромном суперсоциуме).
Эпоха терпимости полностью уходит в прошлое, в ряде обществ принадлежность к оппозиционным учениям карается смертью. Догматические религии были основаны преимущественно на социальном побуждении «быть как все» и на жестком подавлении социального побуждения «новизны». [19] Эта цитата из труда И.М. Дьяконова достаточно длинная, но она развернуто характеризует положение с конструкцией справедливости в начале Средневековья.
Причем в данном случае какая-либо отдельная часть света не является образцом или главным объектом исследования, по которому характеризуют фазовый переход. «Вся современная историческая терминология и классификация базируется на опыте одной лишь Европы; азиатские общества относятся к «формациям» совершенно механически, и всякая эксплуатация в этих обществах огульно обозначается как «феодальная», хотя ни к каким феодалам она, как правило, не имеет отношения. Между тем на самом деле Европа имела на изучаемом отрезке исторического процесса как раз своеобразное развитие, азиатские же пути развития были типичными» [19].
Именно Азия в начале новой эры была в авангарде, Европа же до середины второго тысячелетия хронически отставала от неё практически во всех сферах. Завоевания арабских халифатов стали «двигателем экономического пробуждения Западного христианского мира» [38]. Европа искала свой путь развития, как оказалось впоследствии, достаточно эффективный. «Так, отставая в XI веке по совокупному уровню развития от Китая, Индии и Ирана в среднем в 2,4-2,6 раза, западноевропейские страны к концу XVIII века превзошли их почти вдвое, в том числе по уровню грамотности взрослого населения – в 3-3,5 раза»[38].
В фазовом переходе от Древности к Средневековью человека снова низводят до уровня послушного механизма, судьба которого определена свыше, он может её лишь слегка корректировать, причем способ корректировки также зависит от послушания. В индуизме и буддизме господствует учение навечно предписанного человеку удела (в индуизме – дхарма) в пределах которого он может действовать (карма означает деяние). На предопределенности судьбы основана кастовая система, которая существует до сих пор в Индии. Эта система сложилась в начале нашей эры и считалась справедливым состоянием общества. В ней личность не играет никакой роли, человек лишь своим послушанием системе может попробовать исправить ситуацию и не допустить в следующей реинкарнации представления в виде мерзкой крысы или отвратительной жабы.
Христианство, как и восточные религии также учит в первую очередь послушанию, именно в нем проявляется справедливость. Бог не только всемогущ и всеблаг, но и справедлив. Его справедливость – высшая сила, он всем воздает по заслугам.
В данной работе мы не рассматриваем возможные причины такого возвращения к истокам в процессе движения к справедливости, а лишь констатируем факт и отмечаем его характер. Человечеству в действительности снова приходится начинать движение к ней почти с нуля, но всё-таки лишь «почти». Учения древних философов не пропали даром, их переосмысливают, перекраивают, подгоняют под текущую ситуацию, но тем не менее философия Аристотеля и Платона составляет основу новых догматических христианских учений начала Средневековья. Их идеи, их философские конструкции активно используются новыми философами, хотя всё это приспособлено для нужд теологии. Из научных изысканий вытеснили философию, основанную на человеческой личности. Интересным является тот факт, что учения древнегреческих мыслителей вернулись в Европу в переводах с арабского языка, европейская культура их забыла, выбросила, как ненужные.
Падение уровня справедливости в начале средневековой фазы – несомненно, недаром эту эпоху называют «тёмными веками», но нельзя не заметить, что в этот же период видны и положительные сдвиги. Именно в начале Средневековья появилось настоящее кодифицированное право. Истоки кодекса императора Юстиниана берут своё начало еще из Древности, но его появление связывается уже с новой эпохой. Примерно в это же время в Китае в период династии Тан появляется кодифицированное право на Востоке. Человек пытается отношение к справедливости упорядочить, жестко установить «должное» по которому нужно сверяться. Система справедливости упрощается, становиться более понятной. Конечно, сами законы далеки от совершенства, они пишутся в интересах определенной части общества, но сам факт их появления – существенное продвижение по траектории вектора справедливости.
В средние века основным определителем справедливости становится церковь, особенно наглядно это видно на примере Европы. Церковь становится не только судьей, но и единственным идеологом справедливости, философия практически полностью вытесняется теологией. Научные исследования рассматриваются только лишь в плане соответствия догмам, пресекается любое свободное мышление, личность определяется лишь, как субъект служения Богу.
Церковь даже определяет, кого можно считать человеком, а кого нет. Например, в 585 году на втором Маконском соборе обсуждался вопрос, имеет ли женщина душу и можно ли её называть человеком. Хотя сторонники церкви утверждают, что обсуждение носило чисто лингвистический характер о значении слова «homo». Якобы речь шла лишь о том стоит ли распространять понятие «homo» исключительно на мужчин или на всех людей, включая женщин, но причем здесь душа? Во всяком случае, со слов епископа Григория Турского, автора «Истории франков» («Historia francorum») и современника этого события, решение было принято в пользу наличия у женщины души. Женщину признали человеком. Возможно это миф, но нет дыма без огня, отношение религии к женщине носило крайне дискриминационный характер.
В продолжение темы, кого нужно считать человеком – 2 июня 1537 года Папа Римский Павел III в специальной булле признал американских индейцев людьми, наделенными душой. В течение сорока пяти лет после открытия Колумба в этом сильно сомневались.
Не слишком отличались действия восточных церквей. В мусульманстве справедливость определялась лишь Богом, женщина по определению считалась нечистой и подчиненной мужчине. Религиозные книги вообще не давали каких-либо сведений об этическом понятии добра и зла, всё решалось лишь вопросом веры.
Божественное главенство требовало формализации, кроме священных Библейских заповедей необходимо было установить законы в соответствии, с которыми устанавливалась бы справедливость. В европейском пространстве средневековые философы такие, как Блаженный Августин, Фома Аквинский усиленно работали над этим.
§ 2 Фома Аквинский, господство теологии.
Фома Аквинский определяет понятие благодетели, то есть образ действий направленный к благой цели. Благодетель разделялась на естественную и богословскую, последнюю человек получает только лишь ниспосланием на него божественной благодати. Фома устанавливает четыре вида законов, во главе стоит Вечный закон (lex aeterna), как вечный божественный разум, управляющий миром. За ним следует закон естественный(lex naturalis), но он всего лишь отражение вечного божественного закона в разумных существах. Все законы, принципы справедливости замыкаются на Боге и его «представителях» на Земле.
Наступление религии не было простым и бескровным, на протяжении многих веков идет постоянная борьба церкви со светской властью, которая конечно не собиралась отдавать своё первенство. Это накладывало отпечаток на развитие понимания справедливости. Светских философов уже практически не существует, а церковные пытаются всячески обосновать положения, радикально меняющие взаимоотношения внутри общества. Пересматривается важное положение римского права – «всё что угодно государю – имеет силу закона», во главу угла ставятся божьи установления.
Фома Аквинский – столп католической философии утверждает, что власть дается только от Бога, но в его теории есть интересные тонкости. Эта власть дается не конкретному человеку, а народу, из среды которого уже выдвигается избранник, на которого переносится право издания законов. Декларируется даже право народа на восстание, конечно, только в том случае, если затрагиваются не только интересы людей, но обязательно и в первую очередь не выполняются божественные предписания. Для снижения влияния светской власти вспоминаются даже демократические принципы, хотя и глубоко завуалированные: народ – носитель власти, его право на восстание.
В тоже время народ, население остаются фактически бесправными. Лично-зависимых людей в начале Средневековья всё больше и больше, такими становятся многие из бывших свободных, однако и структура зависимости усложняется. Чаще всего это уж не рабство пленника лишенного всех свобод, а рабство основанное на экономической зависимости при которой человек имеет некоторую степень свободы. Этого требует технологический кризис рабского труда, его низкая производительность. Дьяконов считает, что эпоха средневековья наступает именно тогда, когда ранее лично-свободные крестьяне попадают в зависимость. «В начале этой фазы возникает «магнатское» землевладение, при котором землевладелец обладает атрибутами судебной и исполнительной власти. Круг лиц, подвергающихся эксплуатации, растет. Уровень жизни населения (и даже господствующего класса) понижается». [19]
Рабство разнообразит свои формы, но остается в сознании обществ явлением не только полезным, но и справедливым. Фома Аквинский выдвигает сразу четыре аргумента в защиту рабства, видит в нем лишь разновидность частной собственности. Первый аргумент сходен с аргументом Аристотеля, что неравенство естественно. Второй – повторяет суждение Блаженного Августина: рабство есть грехопадение. Третий – обосновывает законность военного плена и четвертый – рабство экономически целесообразно и без него невозможно будет прокормить людей.
Насилие воспринимается, как норма, причем насилие не только физическое, но и моральное. Вся эпоха средневековья характеризуется господством прозелитического мышления. Легкое, ненавязчивое отношение к вероисповеданию в Древности уходит в прошлое, на смену ему приходит жесткое господство одной религии, чаще всего государственной, преследование отступников вплоть до физического уничтожения.
Перетекание определения справедливости на сугубо религиозную платформу не могло удовлетворить тех людей, которые стремились к свободе личности, к лучшей жизни, к человеческому счастью. Средневековье особенно в Европе было временем крайне трудным для выживания человека, недаром европейского средневекового горожанина считают одним из самых несчастных представителей вида homosapiensза всю историю его существования. Он был постоянно голоден, плохо одет, страдал от холода и грязи, болел, средняя продолжительность жизни составляла около двадцати лет.
§ 3 «Утопия» и «Город Солнца»
В обстановке материального, морального убожества и угнетения разум человека не переставал работать. Не имея возможности достичь счастья наяву, люди достигали его в мечтах. Лучшие мыслители времени излагали свои мечты на бумаге. В этих произведениях отчетливо прослеживаются, не просто чаяния лучшей жизни, но и конструкции, системы совершенного общества, понимание идеалов справедливости, конечно, идеалов адекватных сознанию людей средневековья. Таких произведений было немало, наиболее известными стали «Утопия» Томаса Мора и «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы.
Они написаны с разницей в сто лет, очень разными людьми по стилю жизни, по занимаемому положению в обществе, но в их сочинениях так много общего. Мор представитель высшего света, хоть и выходец из буржуазной среды, но носящий титул рыцаря. При Генрихе VIII достигший пика карьеры – поста лорд-канцлера. Кампанелла – сын сапожника, монах.
Мор прожил всю жизнь в достатке, но закончил свою жизнь на плахе, Кампанелла почти всю жизнь был гоним и прожил в бедности, 27 лет провел в тюрьме, умер на чужбине, но своей смертью.
Очень разные люди, но похожие идеи, сходные идеалы и конструкции совершенного, с их точки зрения, общества. Первым, что объединяет эти два сочинения это отношение к собственности. Оба автора считают её причиной несправедливости, поэтому на острове Утопия и в Городе Солнца собственности нет. Кампанелла пишет: «… у них нет никакой собственности; поэтому не они служат вещам, а вещи служат им». Но есть и некоторые оговорки, например, в «Утопии» используют золото и серебро, правда оно не применяется внутри «идеального» государства, а служит лишь для того, чтобы давать взаймы, вести торговлю с другими странами, откупиться от врагов в случае необходимости. Более того, граждане Утопии воспитываются в духе пренебрежения к этим эквивалентам собственности и богатства. «Между тем с золотом и серебром, из которых делаются деньги, они обходятся так, что никто не ценит их дороже, чем того заслуживает природа этих металлов… золоту и серебру природа не дала никакого применения, без которого нам трудно было бы обойтись, но людская глупость наделила их ценностью из-за редкости. … из золота и серебра повсюду, не только в общественных дворцах, но и в частных жилищах, они делают ночные горшки и всю подобную посуду для самых грязных надобностей. Сверх того из тех же металлов они вырабатывают цепи и массивные кандалы, которыми сковывают рабов. Наконец, у всех опозоривших себя каким-либо преступлением в ушах висят золотые кольца, золото обвивает пальцы, шею опоясывает золотая цепь, и, наконец, голова окружена золотым обручем»[36], – пишет Томас Мор в «Утопии».
Примерно такая же ситуация и в Городе Солнца, хотя и нет показного негативного отношения к драгоценным металлам. «Торговля у них не в ходу, хотя они и знают цену денег и чеканят монету для своих послов и разведчиков». [20] В этих описаниях, вероятно, сказывается неуверенность авторов в правильности своих выводов о собственности. Им очень хочется избавиться от денег, торговли, имущественного неравенства, но они оставляют лазейку для связи с современным им обществом. Любая утопия лучше воспринимается, если она хоть в чем-то похожа на настоящее.
В обоих трудах отмечается неуклонное стремление к равенству, которое часто перерастает в унификацию, пренебрежению к личности. Господствует полное уравнивание – одинаковые города, нравы, языки, даже одежды. В «Утопии» подробно описывается: «Что же касается одежды, то, за исключением того, что внешность ее различается у лиц того или другого пола, равно как у одиноких и состоящих в супружестве, покрой ее остается одинаковым, неизменным и постоянным на все время, будучи вполне пристойным для взора, удобным для телодвижений и приспособленным к холоду и жаре».[36]
Навязывается логическая связь: отсутствие собственности – равенство на этой основе – справедливость. Проповедуется рационализм вплоть до аскетизма, например в Утопии выдают только один комплект одежды на два года.
В описаниях присутствуют «оговорки по Фрейду», например, оба автора просто не могут себе представить, такое общество, где в действительности всего вдоволь и все равны. Их подсознание не верит, что такое может быть в реальности. Упорно утверждается, что всего в достатке: еды, одежды, но в Городе Солнца одним из наиболее распространенных поощрений является дополнительная еда. Каждый гражданин получает положенную ему порцию, но руководители имеют привилегию – получают бóльшую порцию, чем рядовой гражданин. Детям, прислуживающим за трапезой, в награду может перепасть какая-нибудь еда со стола взрослых, в которой, исходя из деклараций автора, они нуждаться не должны. «Должностные лица получают большие и лучшие порции, и из своих порций они всегда уделяют что-нибудь на стол детям, выказавшим утром больше прилежания на лекциях, в ученых беседах и на военных занятиях». [20]. То есть при декларируемом материальном изобилии поощрением является примитивный, с точки зрения жителя постиндустриального общества, стимул – еда. При постоянном декларировании равенства, жители «Города Солнца» регулярно уходят от него, настойчиво то тут, то там всплывает принцип избирательности справедливости.
Возникают поистине парадоксальные ситуации, например, в Городе Солнца, чтобы наглядно показать всеобщее равенство, утверждается, что всё общее, общие даже женщины и дети. При этом упускается из вида, что возникает вопиющая, конечно, по мнению человека постиндустриального общества, несправедливость, основанная на дискриминации по половому и возрастному принципу.
Декларируется равенство, но при этом даже личная свобода доступна не всем. Есть разделение на слуг и хозяев, рабство не запрещено, оно присутствует и в Утопии и в Городе Солнца. Томас Мор выделил специальную главу «О рабах», в которой пытается подробно обосновать необходимость и справедливость рабства, как вариант допускается добровольное рабство. «Утопийцы не считают рабами ни военнопленных, кроме тех, кого они взяли сами в бою с ними, ни детей рабов, ни, наконец, находящихся в рабстве у других народов, кого можно было бы купить. Но они обращают в рабство своего гражданина за позорное деяние или тех, кто у чужих народов был обречен на казнь за совершенное им преступление». [36] Он не может даже в глубине своего гениального сознания допустить полное искоренение рабства, как общественного явления.
Оба произведения проникнуты стремлением к гуманизму, но рабы закованы в цепи и выполняют самую грязную и трудную работу, а к бывшим свободным гражданам Утопии, попавшим в рабство относятся «… более сурово на том основании, что они усугубили свою вину и заслужили худшее наказание, так как прекрасное воспитание отлично подготовило их к добродетели, а они все же не могли удержаться от злодеяния». [36]
К рабству относятся, как к справедливой каре, «все наиболее тяжкие преступления караются игом рабства». [36] Спектр тяжких преступлений широк, к таким преступлениям утопийцы относят, например прелюбодеяние. «Оскорбители брачного союза караются тягчайшим рабством…»[36]
В Городе Солнца, как утверждает Кампанелла, с одной стороны: «Рабов, развращающих нравы, у них нет: они в полной мере обслуживают себя сами, и даже с избытком». [20] С другой стороны, как бы между прочим, он пишет: «…рабов, захваченных на войне, они или продают, или употребляют либо на копанье рвов, либо на другие тяжелые работы вне города». [20] Кампанелла, как и Мор, не может себе представить общество в котором вовсе нет рабов, допускает, что существование рабства может быть справедливым.
Женщины неравны с мужчинами, в Городе Солнца, они вообще не имеют права выбора полового партнера, существует даже специальная процедура отбора для деторождения. Учрежден специальный департамент Любви в ведении которого находятся: «…деторождение и наблюдение за тем, чтобы сочетание мужчин и женщин давало наилучшее потомство. И они издеваются над тем, что мы, заботясь усердно об улучшении пород собак и лошадей, пренебрегаем в то же время породой человеческой». [20] Так, чуть ли не восторгом пишет Кампанелла.
Оба автора, критикуя существующую государственную систему, по сути, остаются к ней привязанными. В обоих случаях это фактически деспотия, хотя и с оговорками, в отношении собственности и выборности руководства. Главным тезисом является – разумное руководство, то есть именно оно должно обеспечить справедливость в государстве. Псевдосоциалистическая система распределения преподносится, как выход, но нет обдуманных конструкций обеспечивающих жизнеспособность подобных образований.
В системе управления много противоречий, например, декларируется свобода слова, каждый может высказаться, но нет механизма доведения мнения даже до уровня обсуждения, не только реализации. Как это может изменить течение жизни? Ценность личности и её значение пока еще нивелируется так же, как и у клерикальных философов. Легко допускается насилие, как физическое, так и моральное.
Однако, несмотря на все мои умничания из эпохи постиндустриализма, «Утопия» и «Город Солнца» оказались великими вехами на пути к той Абсолютной справедливости, которую невозможно достичь, но которая, является ориентиром движения, стимулом в оттачивании структуры и качества натуральной справедливости.
Гуманизм декларируется в обоих произведениях. Несмотря на то, что действия личности всячески регламентируются, к человеку пытаются относиться уже более бережно. Мор пишет о необходимости особого отношения к человеку, нужно чтобы: «…каждый усердно занимался своим ремеслом, но не с раннего утра и до поздней ночи и не утомлялся подобно скоту».[36] Он подчеркивает неадекватность наказаний в современной ему Европе: «… наказание воров заходит за границы справедливости и вредно для блага государства. Действительно, простая кража не такой огромный проступок, чтобы за него рубить голову, а с другой стороны, ни одно наказание не является настолько сильным, чтобы удержать от разбоев тех, у кого нет никакого другого способа снискать пропитание». [36]
Мор уверен, что даже к людям находящимся в заключении необходимо проявлять разумное милосердие, поэтому в Утопии: «Работающие усердно избавлены от оскорблений; только ночью, после поименного счета, их запирают по камерам. Кроме постоянного труда, их жизнь не представляет никаких неприятностей» [36]. Мор отрицает моральное насилие, наказанием является лишь постоянный труд.
В «Утопии» проповедуется ценность человеческой жизни, что по тем временам было неслыханно. «Я считаю, что человеческую жизнь по ее ценности нельзя уравновесить всеми благами мира»[36], – пишет Мор. Оба мыслителя ратуют за деятельность на пользу человеку, иногда это получается достаточно неуклюже, но очень важно стремление. Все религиозные философы до них декларировали, что человек это прах, грязь, недостойное существо, которое всей своей жизнью обязано искупать свои грехи и не думать о себе. Удовольствие, радость могут быть связаны только с Богом. У Мора и Кампанеллы сочинения созданы с мыслью о людях, с желанием найти выход из непроглядной жизни средневекового человека, со стремлением создать более справедливую государственную систему.
§ 4 Ла Боэси, прорыв через эпохи.
Конечно, Мор и Кампанелла не были одиноки, подобные утопии писали и другие философы, например сэр Фрэнсис Бэкон. Некоторые их современники, сочинения которых не постигла такая же известность, шли в своих рассуждения дажедальше, были более смелыми.
Французский кавалер Этьен де Ла Боэси, проживший очень короткую жизнь, еще в середине шестнадцатого века в своей работе «Рассуждения о добровольном рабстве» заявлял: «… какое место должна занимать монархия среди других видов государств, я хотел бы знать, должна ли она вообще занимать какое бы то ни было место среди них»?[26] Это было неслыханно! Статус монарха, который являлся олицетворением и гарантом справедливости подвергался сомнению. Была впервые высказана мысль, которую и сегодня многие повторяют лишь шепотом. Оказывается власть любой человек, наделенный нею, берет в свои руки не сам, она не дается Богом, а вручается ему его же подданными. Ла Боэси пишет: «… столько народов нередко терпят над собой одного тирана, который не имеет никакой другой власти, кроме той, что они ему дают; который способен им вредить лишь постольку, поскольку они согласны выносить это; который не мог бы причинить им никакого зла, если бы только они не предпочитали лучше сносить его тиранию, чем противодействовать ему».[26] (Курсив и выделения мои А.С.) На суд читателя выносится идея, что любое наше подчиненное состояние по своей сути является добровольным.
Появляется совершенно новая конструкция справедливости – свобода и права человека не только не даются ему властью или вообще кем-либо, а принадлежат ему просто потому, что он человек, по самой его природе. Сам властитель получает власть не от Бога, полученным правом на власть он обязан своим подданным, именно они позволяют ему над собой властвовать. Не только лицо обличенное властью имеет право судить по справедливости, но и каждый человек.
Это было настолько ново, необычно и опасно, что близкий друг де Ла Боэси Мишель Монтень не решился сам опубликовать «Рассуждения о добровольном рабстве». Только спустя тринадцать лет после смерти автора в 1576 году памфлет был опубликован, но и после этого он оставался большой библиографической редкостью. Отчаянный республиканец де Боэси критиковал монархию, насилие власти: «…не знаю, как можно предпочитать сомнительную безопасность жалчайшего существования даже слабой надежде на спокойную и счастливую жизнь». [26]
Несмотря на это он не считал, что покорность многих одному – это трусость. Ла Боэси считал это пороком, порожденным незнанием, безысходностью, неумением жить по-другому. Даже если люди, народ победит они не знают другого строя, кроме строя порабощения. Они могут сами стать поработителями, но они не могут стать свободными людьми. Первой причиной добровольного рабства является привычка, «… следует пожалеть тех, которые родились с ярмом на шее; но надо также простить и извинить подобных людей, ибо они никогда не видали даже и тени свободы и поэтому, совершенно не изведав ее, не сознают своего зла быть рабами». [26]
Он открывает глаза людям, говоря, что в сущности борьба с тираном не представляет большой сложности: «… с этим единственным тираном незачем сражаться, его незачем побеждать, он побежден сам по себе, только бы страна не соглашалась на свое рабство. Не нужно ничего отнимать у него, нужно только ничего ему не давать. Стране не нужно делать никаких усилий для себя, только бы она ничего не делала против себя» [26]. Так почему же вокруг царствует тирания и несправедливость? Ла Боэси отвечает: «… для того чтобы люди, поскольку они остаются людьми, позволили себя поработить, необходимо одно из двух: либо их надо принудить к этому, либо они должны быть обмануты»[26]. То есть власть находится у сильных или хитрых и нечестных.
Он пытается размышлять о природе справедливости разделения на сильных и слабых, умных и не наделенных какими-либо преимуществами: «И если, наделяя нас своими дарами, она (природа А.С.) дала некоторым из нас известные физические и духовные преимущества по сравнению с другими, то она тем не менее не имела в виду посеять вражду между нами она послала сюда, на землю, более сильных и более умных не с тем, чтобы они, как какие-то вооруженные разбойники в лесу, нападали на более слабых. Но следует скорее думать, что, наделив одних большими способностями, чем других, она хотела тем самым создать место для братской любви, чтобы у этой любви было, где найти себе применение, поскольку одни в состоянии оказывать помощь, а другие нуждаются в ней». [26]
Ла Боэси пытается опровергнуть широко применяемый его современниками тезис о справедливости права сильного, заменить его братской любовью к слабому. В подтверждение этого он показывает, что в сущности все люди очень похожи, что все мы имеем Землю, как единый дом, все мы наделены способностью говорить и чувствовать. Этим природа показала людям, что они должны быть едины, а значит, все одинаково свободны,«… никому не может прийти в голову, что природа кого-нибудь из нас обрекла на рабство…» [26]
Ла Боэси пытается доказать неестественность отношений в тоталитарном обществе, а так как основой справедливости он считает природу, то и несправедливость этих отношений соответственно носит неприродный характер, «… нет на свете ничего более противоречащего всегда разумной природе, чем несправедливость». [26]
§ 5 Монтень, феномен детства.
Ла Боэси далеко шагнул из своей эпохи. Некоторые фразы из его трудов до сих являются многим людям, как откровения. Его друг Мишель Монтень имел несравненно более умеренные взгляды и считал, что опубликование работы Ла Боэси будет несвоевременным и даже вредным. Это не удивительно ведь в своих знаменитых «Опытах» Монтень призывает подчиняться даже несправедливому государю, а если и осуждать его, то только после смерти в назидание потомкам. «Мы обязаны повиноваться и покорятся всякому без исключения государю, так как он имеет на это бесспорное право; но уважать и любить мы должны лишь его добродетели». [34] Объясняет это он своеобразно: «Царь – всего-навсего человек. И если он плох от рождения, то даже власть над всем миром не сделает его лучше…» [34]. Монтень призывает судить обо всех людях не по богатству или должности, а по его сущности. Это выглядит правильно, но справедливость основывается только на «бесспорном праве» власти, которое у Ла Боэси оказывается совсем небесспорным.
Монтень приобрел своими «Опытами» широкую известность, возможно именно потому, что его взгляды были менее радикальными, чем у Ла Боэси. Он не смог настолько опередить время, но в конструкцию будущей справедливости внес свою лепту, например, он осуждал пытки, которые в те времена применялись повсеместно и считались нормальным явлением. Часто пытали людей невинных, а признание под пыткой служило доказательством вины. «Многие народы, менее варварские в этом отношении, чем греки и римляне, называющие их варварами, считают отвратительной жестокостью терзать и мучить человека, в преступлении которого вы еще не уверены. Чем он ответственен за ваше незнание? Разве это справедливо, что вы, не желая убивать его без основания, заставляете его испытывать то, что хуже смерти?» [34]
Его гуманизм особенно проявился во взглядах на воспитание, в его лице дети и подростки получили защитника, считающего, что в отношениях с молодежью очень важно соблюдать принцип ненасилия и свободы мышления. «Я хотел бы, чтобы воспитатель вашего сына… предоставил ему возможность свободно проявлять эти склонности, предлагая ему изведать вкус различных вещей, выбирать между ними и различать их самостоятельно, иногда указывая ему путь, иногда, напротив, позволяя отыскивать дорогу ему самому». [34]. В трудах Монтеня начинают формироваться черты феномена детства. Примечательно, что говорилось о неправомерности не только физического насилия, но и морального. Этот принцип так привычен для цивилизованного общества сейчас, но тогда подобные методы воспитания казались неоправданными, глупыми, они противоречили религиозным догмам, Библии. Насилие над детьми считалось нормой, оправдывалось общественным мнением. В бедных слоях общества ценность ребенка, как личности и даже, как жизни не осознавалась. От «ненужных» детей, особенно в младенческом возрасте, избавлялись различными методами. «Для устранения «избыточных» членов семьи или племени использовали, кроме ритуальных жертвоприношений, голод, отравление, переохлаждение и простое удушение. Такие действия носили, а кое-где продолжают носить нормативный характер, не относясь обществом к разряду убийств и не вызывая протеста».[38] Это наблюдалось даже в европейских странах еще в начале двадцатого века.
Однако появление «Опытов» позволило по-новому взглянуть на принципы справедливости в отношении детей и подростков, хотя в шестнадцатом веке такой подход многими рассматривался, как чудачество.
§ 6 Реформация, как поиск новых вариантов справедливости.
Шестнадцатый, семнадцатый века внесли существенный вклад в конструкцию справедливости, можно даже сказать, что они были переломными для средневековья. Важными факторами перелома были движения реформации католической церкви и контрреформации. Последнее течение тоже немало способствовало этому, например, Томмазо Кампанелла, несмотря на то, что сам пострадал от католической церкви, был деятелем контрреформации. Оба движения стали своеобразным поиском справедливости и источником свободомыслия, хотя каждое из них внутри себя жестко ограничивало личность, но сам факт появления альтернативных течений, показывал обществу, что существует возможность мыслить «не в едином строю», идти поперек догм. На фоне господства догматики появляются теории, которые показывали, что «можно думать иначе».
Стабильность догматики диссонировала с социально-экономической нестабильностью в обществе, частой сменой власти. Абсолютизм пришел на смену феодальной раздробленности, разброду и шатаниям. По итогам реформации светская власть укрепилась, церковь в некоторых странах, например в Англии, попала в прямую зависимость от неё. Географически близкие государства и народы стали коренным образом отличаться друг от друга и эти отличия старались подчеркнуть. «В пределах такого абсолютистского государства нового типа выделяются одна религия и одна сознающая себя национальность как господствующие».[19] Абсолютизм стал откликом общества на желание стабильности, которой так не хватало на протяжении многих веков после разрушения древних империй.
Но эта стабильность и однообразие существовало в пределах единого государства далеко не всегда и не всюду. Реформы в религии питали дух свободомыслия в других сферах, желание изменить жизнь и даже общественную систему.Ряд известных деятелей реформации, например, Ульрих Цвингли в Швейцарии, были противниками монархии, поддерживал республиканский строй.
Благодаря реформаторству, на смену исключительно прозелитическому пониманию, появились законы о веротерпимости, тем самым подтверждалась легитимность разнообразного мышления. «Варшавская конфедерация» 1573 года в Речи Посполитой уравнивала в правах католиков и православных, «Нантский эдикт» во Франции в 1598 году даровал гугенотам те же права, что и католикам. Подобные законы издавались и в других странах Европы, а затем и Северной Америки. Провозглашение духовного равенства стимулировало развитие представлений о равенстве политическом. Так,например, в странах, где большинство составляли сторонники реформации, мирянам представлялись бóльшие возможности в управлении церковью, а гражданам в управлении государством.
Образование стабильных абсолютистских монархий это также своеобразный ответ на поиск справедливости. В таких странах народы становились более сплоченными, а значит более защищенными. Справедливость не нужно было искать где-то на стороне, наличие крепкого государства обеспечивало справедливость по отношению к чужеземцам, завоевателям. Принадлежность к такому государству порождало ощущение внутренней правоты, собственной ценности. Население становилось солидарным, общим становилось не только государство, но и язык, религия, все культурное наследие.
Выстраивание жесткой государственной власти, диктата в основных сферах деятельности с одной стороны порождали зависимость, с другой противодействие, желание выскользнуть из установленных барьеров. Даже абсолютизм не мог побороть возродившийся дух свободомыслия, который породил научный бум. Европа имела заметное преимущество перед другими частями света, вся её наука говорила на одном языке – латинском. В эти века происходят величайшие открытия в области естественных наук, плодами которых мы пользуемся до сих пор – Коперник, Галилей, Ньютон. От них не отстают философы – Ла Боэси, Бэкон, Спиноза, Гоббс, Декарт, Локк.
Перестройка мышления породила новые экономические позиции. Меркантильные отношения, основанные на том, что смысл жизни реализовывается через получение прибыли, увеличение капитала, зародились давно, еще в XII – XIII веке. Позже мы назовем их капиталистическими, в XV – XVI веках они пока еще не стали главенствующими в обществе, но начинают давать свои всходы. Выходцы из буржуазии становятся очень богатыми и влиятельными, достигают высот во властной иерархии, но в государстве, основанном на принципах справедливости аристократии и абсолютного монарха, им могут отводиться лишь вторые роли.
Большинство деятелей реформации, которые во многих странах в это время достигли самых верхних уровней власти, по-прежнему поддерживали монархию, но своей специфической религиозной этикой они смогли приоткрыть дверцу, в которую потом в веке девятнадцатом гурьбой вломится новая элита общества – буржуазия.
В протестантских церквах, в противовес раннехристианским, серьёзно изменилось отношение к такому процессу, как накопление материальных благ. «Если для православия нищий (например, Василий Блаженный) был святым, а богатый – негодяем уже потому, что он богатый, если католичество, позволяя своим священнослужителям наживаться, все же признавало за бытовым аскетизмом ореол святости (огромную роль играли в нем нищенствующие ордены францисканцев и доминиканцев), то для большинства протестантских учений мирские блага – это был божий дар, который нужно хранить и приумножать» [19]. Особенно подробно на этом процессе мы остановимся позже в разделе Новое время, на примере работ Макса Вебера в особенности его книги «Протестантская этика и дух капитализма»
За религиозным разрешением накапливать богатства, должно было последовать светское, научное обоснование этого процесса. В семнадцатом веке особенно плодотворно на этом поприще потрудились англичане Томас Гоббс и Джон Локк, голландец Спиноза и француз Монтескьё. В основе их трудов лежала важность правовых отношений в обществе, из которых естественно выстраивалась легитимность высокого положения буржуазии, неприкосновенности честной собственности не только для королевских особ, но и для других богатых людей. На этой же основе подтверждалась справедливость предпринимательства, как средства обогащения и достижения высших позиций в светском обществе. Гоббс возможно конкретно о перечисленных факторах социально-экономической жизни специально и не думал, но он создал отличную предпосылку для утверждения их положения и дальнейшего строительства новой конструкции справедливости.
§ 7 Томас Гоббс и его теория общественного договора
Томасу Гоббсу из трех форм государственности, которые он различал, демократии, аристократии и монархии, больше всего не нравилась демократия. Его теория общественного договора, в сущности, была создана для логического обоснования справедливости существующих порядков, то есть поддержания монархий и аристократий. Но, как часто получается, эффект оказался неожиданным, длительным и серьёзным. До сегодняшнего дня теория «общественного договора» в той или иной форме присутствует во многих современных социально-экономических концепциях. Её трактовки различны и поэтому мнения расходятся от крайне негативного отношения до хвалебного.
Гоббс считал, что в основе справедливости лежит договор между всеми людьми, причем мотив для его заключения и исполнения есть достижение мира во всем мире. Человек имеет право защищать себя, но если это не приводит к миру, он должен смириться и ограничить свои права и свободу до той степени, которая приведет к мирному существованию.
Проповедуя изначальное природное равенство, он его трансформирует в фактическое неравенство путем уступки прав одних в пользу других, тем самым делая неравенство легитимным. Такие манипуляции приводят к тому, что вся справедливость сводится к выполнению общественного договора. В своей книге «Левиафан» Гоббс пишет: «Несправедливость же есть не что иное, как невыполнение договора»[17]. Такая конструкция сильно упрощает понимание справедливости, одновременно делая её примитивной и силовой. Он пишет о необходимости принуждения к выполнению договора: «… прежде чем слова справедливое и несправедливое смогут иметь место, должна быть какая-нибудь принудительная власть, которая угрозой наказания, перевешивающего благо, которое люди ожидают от нарушения ими своего соглашения, принуждала бы всех в одинаковой мере к выполнению соглашений»[17].
Такие заявления Гоббса в глазах его современников, выглядят вполне логичными и обоснованными, но таким образом, принуждение, то есть насилие, становится справедливым. Власть монарха освященная общественным договором, принятым даже под принуждением, уже не вызывает сомнений в легитимности. Гоббс идет дальше, он пишет: «…подданные монарха не могут без его разрешения свергнуть монархию… так как… каждый из них отдал верховную власть носителю их лица, то, свергая его, они отнимают у него то, что ему принадлежит по праву, что опять-таки является несправедливостью». [17]. Он утверждает: «Власть суверена в государстве должна быть абсолютной… отсутствие таковой власти, а именно беспрестанная война всех против всех, ведет к значительно худшим последствиям». [17].
Казалось бы, что в этих тезисах, которые отражают суть теории Гоббса, может быть прогрессивного, особенно для современного человека? Я даже еще не упоминал о том, что Гоббс, например, считал пытки справедливым явлением. Он видел их, как некий способ стимулирования в рамках насилия требуемого для заключения общественного договора. Однако, как показало время простой принцип общественного договора, всех со всеми, который принимается для того, чтобы избежать войны, живуч и применяется до сих пор. В сущности, современное политическое общество и сегодня пытается заниматься тем же, что предложил Гоббс, то есть пытается заключить общественный договор каждого со всеми.
Без сомнения, многие его трактовки сегодня вряд ли применимы, они соответствовали пониманию справедливости семнадцатого века, но введение в обиход понятия общества, как субъекта договоренностей, оказалось огромным прорывом в совершенствовании конструкции справедливости. Благодаря Гоббсу впоследствии выкристаллизовались: а) необходимость договора в обществе б) образы сторон в этом договоре: власть – народ, в) необходимость системы коллективной безопасности для достижения мира. В реальности во времена Гоббса ничего из вышеперечисленного не существовало, он предвосхитил это, вероятно, сам даже не желая того.
Принцип изначального равенства и общество, как единый коллектив, в котором, хотя Гоббс прямо не говорит об этом, он скорее невольно «проговаривается», даже монарх первоначально должен быть равен любому гражданину – это конструкция, которая в будущем станет основой справедливости капиталистического общества. Никаких божественных привилегий, ни для кого, «помазанник божий» уже не вписывается в такую концепцию. Справедливость выходит на другой уровень, она становится всеобщей, а не избирательной. Мы все дети своей эпохи и Гоббс не исключение, но вольно или невольно он создал фундамент для справедливости иного уровня, справедливости следующих поколений.
К этому можно добавить, что Гоббс в «Левиафане», несмотря на проповедование абсолютной власти монарха и категорического запрета на восстание, отрицает рабство: « … такие люди, называемые обычно рабами, не имеют никаких обязательств и могут с полным правом разбить свои цепи или тюрьму и убить или увести в плен своего хозяина…» [17]. Тем самым он утверждает, что никто не может быть рабом даже у монарха обладающего абсолютной властью, что несколько противоречиво. Неоднозначность, двойственность суждений весьма часто присутствует у мыслителей занимающихся общественными отношениями.
§ 8 Бенедикт Спиноза, общественный договор и верховная власть государства.
Бенедикт Спиноза был хорошо знаком с трудами Гоббса и в своих работах поддерживает его в том, что люди договариваются об учреждении общества, верховной власти и государства, при этом сила каждого гражданина переносится на власть, «волю государства следует считать волею всех». Спиноза, в отличие от Гоббса, был сторонником демократии, так как считал этот способ управления наиболее естественным для обеспечения свободы. Тем не менее, он являлся строжайшим государственником – «верховная власть не связывается никаким законом, но все должны ей во всем повиноваться». В этом суждении явно прослеживается стремление к стабильности. Для того, чтобы её обеспечить (почти как у Гоббса «достижение мира») людям необходимо строжайше подчиняться государству. Для Спинозы справедливость всего лишь побочный продукт государственной деятельности. Причем связь справедливость – закон в его понимании перевернута. Не справедливость обозначает рамки закона, а закон устанавливает смысл справедливости. Не мораль облачается в тогу закона, а закон показывает морали её место.
С одной стороны проповедуется главенство прáва, но с другой – игнорируется общественное значение прав отдельной личности. Они допускаются лишь в пределах государственного законодательства. Aprioriсчитается, что эти законы абсолютно идеальны. Спиноза не хочет признавать, что законы формируются людьми, которые по своей сущности не могут быть целиком и полностью справедливыми. У великого нидерландца над всем витает рука Бога, которая должна наблюдать за идеальностью государственной машины.
Работы Спинозы противоречивы, как все люди, поставленные в жесткие рамки своей эпохи, он пытается совместить несовместимое. Беспрекословное подчинение государству в его трудах соседствует с суждением о необходимости свободы слова. Он утверждает, что государству, в котором права человека ограничены, не только не помешает такое право, а будет очень полезным. Правда он замечает, что при этом человек не должен выступать против уже принятых законов и не должен нарушать мир, благочестие, право верховной власти. Тем самым он осознает необходимость права на свободу слова, но в рамках конструкции «государственной справедливости», не может найти ему место и объяснить механизм его реализации.
Как элемент, в обеих теориях Гоббса и Спинозы, рассматривается принцип пользы, который в будущем станет основой для философии утилитаризма, но я рассматриваю его как новую деталь конструкции справедливости. Гоббс использует пользу, как мерило права в естественном (в понимании Гоббса – диком) состоянии человека, Спиноза уже пишет, что именно в поисках пользы для себя люди идут на заключение общественного договора. Польза становится мерилом не только для отдельного человека, но и для коллектива. Именно общая польза должна лежать в основе указов государства, высшей власти. Спиноза даже сравнивает раба и свободного гражданина с точки зрения качественного различия пользы для одного и другого. Первый выполняет приказы своего господина, который руководствуется лишь своей собственной пользой, а гражданин выполняет указы государства, потому что они направлены на достижение общественной пользы.
Идея получения пользы от жизни регулярно наталкивает людей на мысль: «Зачем живет человек, в чем его предназначение, справедливо ли то место, которое он занимает»? Эти вопросы станут в будущем генераторами свежих идей, рождающих новые конструкции справедливости.
§ 9 Джон Локк, естественная свобода и конституционное право
Джон Локк был ровесником Бенедикта Спинозы, но прожил более долгую жизнь, на четверть века дольше, чем великий нидерландец. Локк был свидетелем и участником многих событий всемирного масштаба, которые наложили существенный отпечаток на его научное наследие. Это были времена великих перемен: Английской революции, диктатуры Кромвеля, установления конституционной монархии и Билля о правах. Локк сам был идеологом некоторых важных событий, находился в тесной связи с Вильгельмом Оранским –первым «настоящим» конституционным монархом Англии, с которым связывают начало восхождения Великой Британской империи на вершину мирового лидерства.
Именно в эти времена «Славной революции» 1689 года, которая привела на трон Вильгельма II Оранского, вышли в свет главные труды Локка и прежде всего это «Два трактата о правлении». Локк не одобрял демократию, предпочитал конституционную монархию, но был ярым сторонником свободы, считал, что человек сам является владельцем своей личности «… каждый человек обладает некоторой собственностью, заключающейся в его собственной личности, на которую никто, кроме него самого, не имеет никаких прав» [27]. «Естественная свобода человека заключается в том, что он свободен от какой бы то ни было стоящей выше его власти на земле и не подчиняется воле или законодательной власти другого человека, но руководствуется только законом природы». [27]
Личная свобода ставится во главу угла и именно на этой основе строится государство. Наилучшей формой правления Локк считает конституционную монархию. Он согласен с Гоббсом, что фундаментом монархии должен быть общественный договор, их трактовки близки. «Единственный путь, посредством которого кто-либо отказывается от своей естественной свободы и надевает на себя узы гражданского общества, это соглашение с другими людьми об объединении в сообщество…» [27] Однако Локк утверждает, что неисполнение договора накладывает обязанности, как на народ, так и на монарха. Локк отвергает абсолютную монархию, как способ правления государством на том основании, что король, имеющий абсолютную власть, не имеет органа, который мог бы его контролировать и разрешать споры, то есть, по словам Локка, в этом случае (состоянии бесконтрольности) монархи находятся в естественном, то есть диком состоянии.
Необходимо заметить, что мысли Локка не были чем-то совершенно новым, почти за пятьсот лет до «Славной революции» в Англии уже были успешные попытки ограничить власть королей. Широко известная «Хартия вольностей» 1215 года именно это и сделала, но в дальнейшем она многократно нарушалась. О ней помнили те, кому это было выгодно, но фактически при правлении многих королей она не работала.
Джон Локк обосновывал происхождение государства предположением о существовании формально незаключенного, сегодня мы бы сказали виртуального, общественного договора, но который фактически существует при согласии всех граждан и таким образом они передают своё верховное право монарху. Формально нечто подобное было реализовано в «Хартии вольностей», хотя конечно в этом случае, говорить о «всем народе» нельзя.
Локк пишет: «Только народ может устанавливать форму государства, делая это посредством создания законодательной власти и назначения тех, в чьих руках она будет находиться» [27]. Нарушение договора уполномочивает народ требовать своё верховное право обратно. Локк считает справедливым и необходимым восстание народа против тиранической власти, посягающей на естественные права и свободу подданных. В этом его теория существенно отличается от мнения Гоббса, который абсолютно исключает возможность свержения монарха.
У Локка подразумевается создание настоящего гражданского общества и правового государства, где каждый гражданин, включая короля и самую высшую знать должны подчиняться законам. То есть их, в случае нарушения законов, также могут наказать и в этом высшая справедливость гражданского общества. Все становятся сторонами общественного договора, нарушение которого в любом случае будет несправедливостью. Основные идеи Локка были реализованы в «Билле о правах» 1689 года. Права монарха были ограничены в пользу представительского органа, который начал осуществлять высшую законодательную деятельность, а король единолично уже не мог ни устанавливать законы, ни их отменять.
Особенностью общественного договора в изложении Локка является власть большинства! «… каждый человек, согласившись вместе с другими составить единый политический организм, подвластный одному правительству, берет на себя перед каждым членом этого сообщества обязательство подчиняться решению большинства (Выделено мной А.С.) и считать его окончательным; в противном же случае этот первоначальный договор, посредством которого он вместе с другими вступил в одно общество, не будет что-либо значить и вообще не будет договором, если этот человек останется свободным и не будет иметь никаких иных уз, кроме тех, которые он имел, находясь в естественном состоянии» [27]. Для той эпохи власть большинства была невероятно оригинальной мыслью, в головах богатых и бедных продолжала господствовать идея власти сильного, это никак не ассоциировалось с большинством, тем более, что в него формально включались все граждане. Тем самым Локк пропагандировал определенную, может быть формальную, зависимость любого даже самого богатого и родовитого человека от некого гражданина, пусть даже не очень богатого и совсем не аристократа.
Притом, что идеи Локка без сомнения были передовыми, он сам конечно оставался представителем своего времени – конца XVII века, в его конструкции справедливости, например, допускается рабство. Он обосновывает его тем же естественным правом, что и свободу личности для каждого гражданина, «… существует другой род слуг, которых мы называем особым именем рабы: это пленные, взятые в справедливой войне, и по естественному праву они находятся в абсолютном подчинении и под деспотической властью своих хозяев»[27]. В этой же конструкции допускается дискриминация женщин и детей, потому что Локк считает мужчин более способными и сильными. Его справедливость всё равно остается избирательной, она, например, не распространяется на католиков, крестьян и слуг. Локк объясняет, что при изначальном природном равенстве, в обществе существует, как бы естественное неравенство. При этом не поясняется, как могут быть нетождественны природа и естество.
Локк прекрасно понимает, что основой неравенства в обычной жизни чаще всего является собственность. Увязать собственность, неравенство и справедливость – труднейшая задача, решение которой он на себя взвалил. Локк отталкивается от того, что первоначально в природном состоянии, пред Богом все люди равны. В работе «Два трактата о правлении» он пишет: «…никто первоначально не имеет частной собственности,…»[27]. Но неравенство существует, значит оно видимо имеет какие-то естественные причины: «… по необходимости должно быть средство присваивать их (плоды природы А.С.) тем или иным путем, прежде чем они могут принести хоть какую-либо пользу или вообще пойти на благо какому-либо отдельному человеку» [27]. Средством присвоения Локк считает воздействие человека на плоды природы, будь это земля, животные, плоды деревьев или злаков. «Что бы тогда человек ни извлекал из того состояния, в котором природа этот предмет создала и сохранила, он сочетает его со своим трудом и присоединяет к нему нечто принадлежащее лично ему и тем самым делает его своей собственностью. Так как он выводит этот предмет из того состояния общего владения, в которое его поместила природа, то благодаря своему труду он присоединяет к нему что-то такое, что исключает общее право других людей»[27].
Появляется первая и достаточно успешная попытка подтверждения легитимности при присвоении продуктов труда, рождается частная собственность, как структурная единица общественной жизни. Труд, как и личность без сомнения принадлежат человеку, поэтому Локку легко доказать, что и продукт труда поправу принадлежит ему же. Несмотря на оговорки «… по крайней мере в тех случаях, когда достаточное количество и того же самого качества [предмета труда] остается для общего пользования других»[27], продукт труда или другого человеческого воздействия на естественные предметы становиться законной собственностью определенной личности. Это обоснование становится краеугольным камнем будущего успеха капиталистических отношений и конструкции справедливости эпохи постиндустриализма.
За обоснованием частной собственности последовало обоснование законности обмена того, что принадлежит кому-либо: « …если он отдавал свои орехи за кусок металла, цвет которого ему понравился, или обменивал овец на ракушки или шерсть на искрящийся камешек или на бриллиант и хранил их всю свою жизнь, то он не нарушал прав других; он мог накапливать этих долговечных вещей столько, сколько ему угодно, потому что выход за пределы его правомерной собственности состоит не в том, что у него много имущества, а в том, что часть его портится, не принося ему никакой пользы»[27]. Локк обосновывает правомерность накопления. Главное не то, что у человека много имущества, а то, что он его получил благодаря своему труду и продукты его труда не пропали, а пошли в пользу другим. «И поскольку различные степени усердия способствовали тому, что люди приобретали имущество различных размеров, то это изобретение денег дало им возможность накапливать и увеличивать его»[27].
Появление денег в теории Локка становится естественным продолжением объяснения законности обмена. Деньги, по его словам, всего лишь долговечная вещь, которая по соглашению принимается людьми для обмена на «полезные, но недолговечные средства существования». Если бы не было денег, то скоропортящаяся собственность пропала бы без пользы.
Деньги, как следствие приложенного труда, частная собственность, которая в теории Локка также является результатом труда, право на накопление, право большинства на управление обществом требовали других законов, другой морали. В глубинах средневековья зарождалась новая конструкция справедливости.
Фундаментальным фактором нового видения справедливости стал принцип разделения властей. Одним из первых к нему пришел Джон Локк. Категорически отрицая абсолютную монархию, он искал выход из вечного тупика злоупотребления властью тех, кому она доставалась. Именно на этом пути он пришел к мысли о власти большинства, которое обладает полной властью, а затем лишь делегирует её. Но он прекрасно понимал, что фактической властью в жизни владеет не коллектив, а конкретные люди, поэтому каждому из облеченных властью, в том числе монарху, должен соответствовать противовес в виде другого человека или организации.
Такая гениальная по простоте мысль пришла в голову Локку, но никакого опыта общества на этом поприще еще не было. Греческие и Римские демократии не породили успешных практик по предотвращению последствий совмещения разных видов власти в одних руках. Локк логично принимает решение, что в образцовом государстве должен существовать орган, который мог бы оценить и рассудить неправильные действия любого человека, неважно, рядового гражданина или монарха. Это радикальное отличие от абсолютной монархии в которой: «…предполагается, что он (абсолютный монарх А.С.), и только он, обладает всей, и законодательной и исполнительной, властью и нельзя найти никакого судьи, не к кому обратиться, кто бы мог справедливо и беспристрастно решить дело, обладая необходимыми полномочиями, и от чьего решения можно было бы ожидать помощи и возмещения любого ущерба или неудобства, которые можно претерпеть от самого государя или по его приказу»[27].
В результате размышлений Локк делает вывод: «…законодательную и исполнительную власть часто надо разделять»[27]. Третьей властью он назвал власть федеративную, которая по его мнению должна принимать решения по поводу войны и мира, ведать дипломатическими вопросами, участием в союзах и коалициях. Судебная власть, как третья основная власть в государстве ним не была выделена. Эстафету идеи разделения властей от Локка принял французский мыслитель Монтескьё.
§ 10 Монтескьё, три ветви власти.
Шарль-Луи де Секонда барон ля Брэд де Монтескьё родился в «простой» французской семье аристократов. Видимо совершенно случайно он родился именно в том году, в котором Джон Локк издал свои «Два трактата о правлении» – 1689. Это были два совершенно разных не только по происхождению, но и по темпераменту и наклонностям человека. В отличие от Локка Монтескьё не испытывал большого желания заниматься практической политической деятельностью. Пост президента парламента в Бордо достался ему после смерти дядюшки, но его влекла другая стезя, ему хотелось литературной славы.
Эту славу он вкусил, оставив государственную службу, но не остались мертвым грузом его образование и опыт работы в городском суде. Возможно, что именно благодаря им, он первым сформулировал принцип разделения властей практически в том виде, в котором мы применяем его сегодня. В своем труде «О духе законов» Монтескьё пишет: «Все погибло бы, если бы в одном и том же лице или учреждении, составленном из сановников, из дворян или простых людей, были соединены эти три власти: власть создавать законы, власть приводить в исполнение постановления общегосударственного характера и власть судить преступления или тяжбы частных лиц»[35]. Впервые, были четко очерчены три ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. Причем наглядно показано, что никакая система правления не может быть справедливой, если не выполняется принцип разделения властей. Не важно, как называется государство – монархией или республикой, если все виды власти перемешаны или совмещены, если они находятся в руках одного человека или ограниченной группы лиц, ни о какой справедливости речи быть не может.
Ясно показана цель и механизм действия разделения властей: «Чтобы не было возможности злоупотреблять властью, необходим такой порядок вещей, при котором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга»[35].
Монтескьё разделил исполнительную и судебную власть. До него их совмещение в одном органе или в руках одного человека, считалось нормой. Он писал: «Не будет свободы и в том случае, если судебная власть не отделена от власти законодательной и исполнительной. Если она соединена с законодательной властью, то жизнь и свобода граждан окажутся во власти произвола, ибо судья будет законодателем. Если судебная власть соединена с исполнительной, то судья получает возможность стать угнетателем»[35]. Это мнение в дальнейшем сыграло большую роль в формировании структуры правления государствами. Судьи в государствах стали выделяться в отдельную социальную группу, а правитель по определению не мог брать на себя судебные функции, только исполнительные.
В работах Монтескьё прослеживается мысль не только разделения властей, но и отделение гражданской жизни от собственно государства. Основой же государства должны стать законы, потому что только они обеспечивают свободу гражданина и нормальное функционирование общества в целом. Именно таким образом формируется конструкция справедливости Монтескьё. Власть необходимо разделить, а законы приводить в соответствие с понятием «должного», в этом цель законотворчества. «… в обществе, где есть законы, свобода может заключаться лишь в том, чтобы иметь возможность делать то, чего должно хотеть, и не быть принуждаемым делать то, чего не должно хотеть… Свобода есть право делать все, что дозволено законами»[35].
«Должное» для Монтескьё, несмотря на ряд абсолютно прогрессивных мыслей, остается во многом на общепринятом уровне семнадцатого-восемнадцатого веков. Например, рабство. С одной стороны он критикует Аристотеля, говоря о том, что его аргументы о существовании «рабов от природы» не убедительны, с другой с легкостью допускает существование рабства, как некое явление существующее параллельно гражданскому обществу. Объясняет это он для отдельных случаев по-разному. Например, рабы, попавшие в это состояние в результате пленения, по его мнению, вполне законный факт, так как победителям необходимо сохранять завоеванное. Однако они становятся рабами лишь на время, пока не станут законными подданными.
Одновременно с признанием легитимности рабства военнопленных он считает: «В демократии, где все люди равны, и в аристократии, где законы должны употреблять все усилия, чтобы сделать их равными, насколько допускает природа этого правления, рабство противно устройству государства и служит только для того, чтобы доставлять гражданам могущество и роскошь, которыми они отнюдь не должны пользоваться» [35]. Рабство может быть только в деспотиях, которыми он считает восточные государства, например Османскую империю.
Его справедливость остается избирательной, например, Монтескьё обосновывает законность обращение в рабство негров. Аргументы, приведенные для этого, современному человеку будут даже смешны: «Люди, о которых идет речь, черны от головы до пят, и нос у них до такой степени приплюснут, что жалеть их почти невозможно. Нельзя себе, представить, чтобы бог — существо очень мудрое — вложил душу, и притом хорошую, в совсем черное тело» [35]. «Что негры лишены здравого смысла, доказывается тем, что они предпочитают ожерелья из стеклышек золоту, которое в таком великом почете у народов просвещенных» [35]. Он не может допустить, что чернокожие являются людьми, на том основании, что в этом случае нужно было бы усомниться, а принадлежат ли европейцы к христианам. Он считает, что существует естественное рабство обусловленное климатом, в котором проживают люди, хотя по его мнению « … область естественного рабства должна быть ограничена лишь некоторыми отдельными странами земного шара»[35].
В книге «О духе законов» описанию рабства выделено сразу несколько глав. Все эти главы посвящены обоснованию законности его различных проявлений. Монтескьё пытается найти истинную причину происхождения рабства: «Перри говорит, что московиты очень легко продают себя. И я знаю почему: потому, что их свобода ничего не стоит». «В этих государствах свободные люди, слишком бессильные перед правительством, домогаются стать рабами тех, кто имеет тираническую власть над правительством»[35]. То есть с его точки зрения рабство широко распространяется там, где свободу очень легко потерять, а значит и сохранять её не имеет особого смысла.
В понимании Монтескьё рабство является естественным элементом конструкции справедливости, но его существование ограничено, как территориально, так и по способу управления государством. Одной из причин существования рабства он считает пользу, получаемую от него. «Народы Европы, истребив народы Америки, были вынуждены обращать в рабство народы Африки, чтобы заставить их расчищать обширные земли Америки. Сахар был бы слишком дорог, если бы растение, из которого он получается, не возделывалось рабами». [35] О пользе вспоминается и тогда, когда обращаются в рабство жители завоеванного государства, взятые в плен. Они ведь не просто так становятся рабами, а для пользы дела. Как бы завоеватели без этого удержали завоеванное?
Избирательность конструкции справедливости в изложении Монтескьё заметна не только по отношению к рабству, но и по отношению к женщинам. Он много рассуждает о домашнем рабстве, особенно в восточных странах, осуждает его, но в его сознании равенство мужчины и женщины еще не созрело. По его мнению женщины наделены красотой, ну а мужчины силой и разумом, поэтому лучше, если мужчины будут заниматься государственными делами, а женщины домашними.
Монтескьё, оставаясь представителем своего времени, мыслит перспективно. К нему, как и к другим мыслителям, приходит понимание, что власть зависит от народа, он должен участвовать в управлении. Возникает естественный вопрос, кто и как должен принимать решения о распределении людей по должностям в структуре управления? Как власть, оставаясь народной, должна не потерять эффективность. Призрак «большинства» не дает покоя государственным деятелям, он кажется очень опасным. С одной стороны всеобщая свобода, но ведь хочется еще и разумных, правильных решений. Опыт республик древности мало чем полезен, разве что обязательным отсевом определенных групп людей при допущении к выборам.
Суть проблемы двояка, во-первых, нужно определить, кому можно дать решающий голос на выборах, а во-вторых, кто будет иметь право быть избранным. Конструкция справедливости во второй половине Средневековья начинает расползаться, с одной стороны декларация всеобщей свободы, с другой – желание не допустить кого-то, например, бедняков, женщин к выборам и тем более к избранию на государственные должности. Монтескьё пишет: «Право подавать голос в своем округе для выбора представителей должны иметь все граждане, исключая тех, положение которых так низко, что на них смотрят как на людей, неспособных иметь свою собственную волю». «Во всяком государстве всегда есть люди, отличающиеся преимуществами рождения, богатства или почестей; и если бы они были смешаны с народом, если бы они, как и все прочие, имели только по одному голосу, то общая свобода стала бы для них рабством (выделение и курсив мой А.С.) и они отнюдь не были бы заинтересованы в том, чтобы защищать ее, так как большая часть решений была бы направлена против них» [35]. Расплывчатые размышления о низком положении одних граждан и исключительном положении других порождает путаницу, в которой обладающим властью есть, из чего выбрать для обоснования легитимности своего типа выборов.
Имущественный ценз, непропорциональность выборов постоянно применяются на практике. Понятия о всеобщем избирательном праве пока нет и в помине. Справедливой считается имущественная, национальная и гендерная дискриминация. Право иметь преимущество на выборах по рождению не кажется Монтескьё крамольным: «Законодательный корпус, состоящий из знатных, должен быть наследственным. Он является таким уже по самой своей природе»[35]. Он с уверенностью утверждает: «Подобно тому, как большинство граждан вполне способно быть избирателями, но не имеет всех нужных качеств для того, чтобы быть избираемыми, народ способен контролировать деятельность других лиц, но неспособен вести дела сам»[35].
Речь пока не идет о нюансах избирательной системы, о том, что голосование должно быть равным, прямым и тайным, рассуждения ведутся на уровне – кого допускать к выборам и кого нежелательно будет видеть на избираемых должностях. Именно поэтому конструкция справедливости Монтескьё, Локка, Гоббса и других мыслителей того времени по своей сути остается средневековой, она не может быть применима к справедливости капиталистической, где в основе лежит свободная конкуренция всех и каждого без исключения. Тем не менее, все они вносят свою лепту в будущую конструкцию справедливости капитализма. Для Гоббса это теория общественного договора, для Локка легитимизация частной собственности и законности её накопления. Монтескьё привнес ясное понимание разделения властей, хотя в вопросах частной собственности и предпринимательства он более сдержан и порицает корыстолюбие, превозносит умеренность, считает, что стремление к превосходству присуще лишь деспотическому обществу. Для него в идеальной демократии средства производства (по обычаю той эпохи, основное средство производства это земельный надел) должны быть равными и небольшими, так как именно это обстоятельство, по его мнению, способно поддерживать умеренность.
Однако он не против предпринимательства вообще, поэтому порицает положение, которое культивировалось в Древней Греции, там для свободных граждан постыдным считалось занятие торговлей, земледелием и ремеслами. Зерна свободного предпринимательства уже посеяны в сознании французского мыслителя, он искренне считает, что возможна такая ситуация, когда отдельные лица будут обладать большими богатствами, но общественные нравы при этом не пострадают. По его мнению, вся суть заключается в «духе торговли», который является основой для отдельных демократий: «Дело в том, что дух торговли влечет за собою дух воздержания, бережливости, умеренности, трудолюбия, благоразумия, спокойствия, порядка и исправности, поэтому, пока этот дух держится, богатства, производимые им, не оказывают никакого дурного влияния. Зло наступает лишь после того как этот дух торговли будет уничтожен излишним накоплением богатств»[35]. Как связан дух торговли с излишним накоплением богатств и вообще, что можно подразумевать под термином «излишние накопления» Монтескьё не разъясняет и вряд ли у него на это был ответ. Важно, что в конструкции справедливости появляется «дух торговли» (читай предпринимательства), который по своей природе, как оказывается, несет с собой массу добродетелей.
§ 11 Вольтер, просвещение, неравенство, абсолютизм.
Рассуждая о философии восемнадцатого века и связанных с нею изменениях в конструкции справедливости нельзя обойти вниманием Вольтера, Руссо и Дэвида Юма. Это люди соверменники, они знакомы лично, широко известны в интеллектуальных кругах своего времени. Однако, Вольтер, получивший при рождении имя Франсуа-Мари Аруэ, несмотря на несомненное его величие и известность не внес существенного вклада в развитие понимания справедливости. При всех его заслугах в области просвещения, он был сторонником не только абсолютной монархии, но и неравенства, как явления, то есть норм глубокого средневековья.
Этот неординарный мыслитель не просто был сторонником неравенства, он поддерживал национальную дискриминацию, например, был антисемитом, что также было нормой прошлого, а не будущего. Тем не менее, история полна парадоксов, несмотря на любовь к абсолютной монархии и неравенству, Вольтер стал в некотором смысле символом буржуазной революции, его культ имел широкое распространение во времена Великой французской революции. В какой-то степени это связано с тем, что Вольтер слыл отчаянным бунтарем и борцом с церковью. При этом он оставался религиозным человеком, проповедовал веротерпимость и считал религиозность важным элементом при формировании понятий справедливости.
§12 Жан Жак Руссо, общественное соглашение и абсолютное равенство, как идеал.
Руссо – великий мыслитель, но как и Вольтер был часто непоследовательным и обладал таким же взбалмошным и склочным характером. Свою общественную деятельность он, в противовес Вольтеру, начал с отрицания просвещения и культуры вообще. Они были антиподами, их вечная вражда была непримиримой. Подобной же участи от Руссо, в последствии удостоился и Дэвид Юм.
Руссо на заре своих исканий был противником собственности на землю и неравенства, которое, по его мнению, проистекало из когда-то появившегося закрепления земельных наделов за отдельными людьми. Как яркий представитель романтизма он был часто наивен и непостоянен. В более поздних своих произведениях он, например, уже отказывается от своего первоначального мнения и пишет, что «собственность – истинное основание гражданского общества». Вся его жизнь была насыщена метаниями. Однако в истории он остался совсем не благодаря своим «подвигам» на поле склок и обид, он поддержал и даже дополнил один из важных элементов современной конструкции справедливости – теорию общественного договора.
Свою работу он назвал «Об общественном договоре или принципы политического права». Его мысли просты и понятны. Сила не может быть законом, она не создает права. Сила может сделать человека рабом, но это не значит, что она его лишает права на свободу. Размышляя над соотношением силы, власти и права Руссо приходит к выводу: «Раз ни один человек не имеет естественной власти над себе подобными и поскольку сила не создает никакого права, то выходит, что основою любой законной власти среди людей могут быть только соглашения»[45]. Он выводит сущность этого соглашения: « … каждый из нас передает в общее достояние и ставит под высшее руководство общей воли свою личность и все свои силы, и в результате для нас всех вместе каждый член превращается в нераздельную часть целого»[45].
Руссо формулирует механизм реализации общественного договора: « … чтобы общественное соглашение не стало пустою формальностью, оно молчаливо включает в себя такое обязательство, которое одно только может дать силу другим обязательствам: если кто-либо откажется подчиниться общей воле, то он будет к этому принужден всем Организмом, а это означает не что иное, как то, что его силою принудят быть свободным»[45]. Принуждение к свободе, сегодня это уже не звучит оригинально, но вполне закономерно для той эпохи.
Состояние в рамках общественного договора, в котором находится человек поддерживая определенные отношения с отдельными личностями и социумом в целом, Руссо называет гражданским и противопоставляет ему естественное, то есть дикое, состояние вне договора. Переход от дикого состояния к цивилизованному ознаменовывается изменением мотива поведения человека, вместо животного инстинкта – справедливость соглашения. «Этот переход от состояния естественного к состоянию гражданскому производит в человеке весьма приметную перемену, заменяя в его поведении инстинкт справедливостью и придавая его действиям тот нравственный характер, которого они ранее были лишены»[45].
Свобода, которую человек получает от природы по факту своего рождения, хороша, но она не идеальна. В процессе действия общественного соглашения человек обретает настоящую свободу, которая позволяет ему жить в обществе. «По Общественному договору человек теряет свою естественную свободу и неограниченное право на то, что его прельщает и чем он может завладеть; приобретает же он свободу гражданскую и право собственности на все то, чем обладает», – пишет Руссо[45].
Его теория универсальна и не привязана, как у Гоббса к абсолютной монархии. Жан-Жак считает, что любой из видов управления государством имеет право на жизнь, дело лишь в том на какую территорию он распространяется. По его мнению, монархия хороша для обширных государств, демократия для малых, ну а аристократия лучше всего подойдет для стран средних размеров. Руссо говорит о принципиальном существовании общественного договора при любой власти, при этом он, как и Локк, подтверждает: « … законодательная власть принадлежит народу и может принадлежать только ему»[45].
Его мысль о том, что абсолютное равенство даже, если его не может существовать в принципе, все равно является ориентиром для улучшения конструкции справедливости, остается величайшей догадкой, способной обосновать все усилия по достижению справедливости: «Говорят, что такое равенство – химера, плод мудрствования, не могущее осуществиться на практике. Но если зло неизбежно, то разве из этого следует, что его не надо, по меньшей мере, ограничивать. Именно потому, что сила вещей всегда стремится уничтожить равенство, сила законов всегда и должна стремиться сохранять его»[45].
Утверждая существование в социуме общественного договора, гражданского права и верховенства закона, Руссо задается вопросом о сущности рабства. «Слова "рабство" и "право" противоречат друг другу; они взаимно исключают друг друга» [45] , – утверждает он. Аристотель спутал причину и следствие, когда утверждал, что рабство имеет естественную причину. На самом деле: «В оковах рабы теряют все, вплоть до желания от них освободиться, они начинают любить рабство…» [45] Рабство кажется естественным только потому, что оно уже существует, но по своей природе каждый человек рождается свободным. Человек не может быть рабом по своей сути: «Постановить, что сын рабыни рождается рабом, это значит постановить, что он не рождается человеком»[45].
В конструкции справедливости Руссо, в отличие от его предшественников, уже нет места рабству. Он не только отрицает рабство в любом его проявлении, но и обвиняет народы Европы, которые делают рабами других, себя при этом вознося над ними. «Вы же, народы новых времен, у вас вообще нет рабов, но вы рабы сами; вы платите за их свободу своею. Напрасно вы похваляетесь этим преимуществом, я вижу здесь больше трусости, чем человечности». [45] Руссо резок и импульсивен, но его идеи находят поддержку и перекликаются с мыслями его современников.
Однако не только высокие идеи о преобразовании организации общества занимали ум Руссо. Своей работой «Эмиль или о воспитании» он внес большой вклад в качественные изменения в такой элемент конструкции справедливости, как отношение к детям. Мысли о воспитании изложенные в этом романе перекликаются с идеями Монтеня, которые тот выдвинул почти на двести лет раньше, но которые продолжали быть мало востребованными в повседневном воспитании молодого поколения. Руссо пропагандирует ненасильственное воспитание детей, хотя от наставника требуется быть строгим, но он не должен уничтожать в своих воспитанниках чувство радости жизни. Воспитание должно быть познавательным, основанным на свободе движений, общении с природой, обучению навыкам физического труда. Отец, как воспитатель, по мнению Руссо не имеет права ограничиваться только произведением детей на свет и их вскармливанием. «Он должен роду человеческому дать людей, обществу — общественных людей, государству — граждан»[46].
Руссо считает безрассудными тех воспитателей, которые пытаются ежедневно вдалбливать в головы своих воспитанников ученые догмы. Обучение должно происходить совершенно по иному, ученик сам способен на многое, ему нужно только дать волю и направить в нужное русло. «Он не выучивает науку, а сам выдумывает ее…»[46].
Роман «Эмиль или о воспитании» произвел фурор в обществе и как часто бывало с Руссо, вызвал скандал. Французский парламент запретил его распространение, а уже изданные книги были осуждены на сожжение. Вызвано это было не столько его взглядами на воспитание детей, сколько пропагандой естественной религии в пику официальной церкви. Руссо проповедовал природное равенство, поэтому в процессе воспитания он рекомендовал учитывать только возрастные и индивидуальные особенности ребенка, а не принадлежность к конфессии или сословию.
Однако этот борец за справедливость не избежал избирательности её применения. Свое видение на место женщины в обществе он обозначил еще в романе «Новая Элоиза», а в «Эмиле» продолжил рассуждения. По мнению Руссо, удел женщины – безропотное подчинение воле мужчины. Она должна быть воспитана в соответствии с его пожеланиями, не иметь собственных ни суждений, ни даже религии. Она должна приспосабливаться к мнениям других и вообще никаких серьёзных умственных занятий ей не нужно, так как ей не пристало иметь самостоятельное мнение. Руссо считал, что естественное состояние женщины это зависимость. Равенство женщин еще не уживалось даже в таких передовых головах, как у Руссо.
§13 Дэвид Юм, справедливость, как проявление эгоизма и прагматичности.
Дэвид Юм, в своё время приютивший Руссо в Англии, но затем из-за ужасно неуживчивого характера своего визави рассорившийся с ним в пух и прах, написал специальный труд, посвященный справедливости. Вторая часть Третьей книги «Трактата о человеческой природе» так и называется «О справедливости и несправедливости». В теории Юма также, как и в работах Гоббса, Локка и Руссо, поддерживается идея общественного соглашения. «… соглашение, устанавливающее собственность и стабильность владений, из всех условий основания человеческого общества есть самое необходимое и что, после того как будет достигнуто общее согласие относительно установления и соблюдения этого правила, уже не останется почти никаких препятствий к водворению полной гармонии, полного единодушия»[56].
Юм, как представитель эмпиризма и предшественник позитивизма особое внимание в вопросах справедливости отводит её связи с собственностью. Для него всё в мире имеет осязаемую предметность, поэтому общественный договор носит сугубо утилитарную функцию ненасильственного согласования разнонаправленных интересов. Справедливость это всего лишь состояние общества, при котором поддерживается порядок и стабильность с помощью баланса интересов. «После того как осуществляется соглашение о воздержании от посягательства на чужие владения и каждый упрочивает за собой свои владения, тотчас же возникают идеи справедливости и несправедливости, а также собственности, права и обязательства». «Собственность человека — это какой-нибудь предмет, имеющий к нему некоторое отношение; но данное отношение не естественное, а моральное и основано на справедливости»[56]. Понятие справедливости возникает при осознании границ личности. Юм это интерпретирует, как определение границ владений, имея в виду материальную собственность.
Его концепция справедливости благодаря своей прагматичности отлично работает на укрепление позиций предпринимательства и защиты капитала. В его идеях эгоизм впервые приобретает особую важность в общественных отношениях. Позже в работах его соотечественника и хорошего знакомого Адама Смита эгоизм станет одним из основных мотивов капиталистических отношений. У Юма он является одной из причин появления справедливости: « … справедливость обязана своим происхождением только эгоизму и ограниченному великодушию людей, а также той скупости, с которой природа удовлетворила их нужды»[56]. По его мнению, ограниченность ресурсов привела к необходимости эгоизма и очерчиванию прав собственности. После этого можно было уже установить «должное» – справедливость собственности, которая позволяет ограничить конфликтность общества.
Юм утверждает, что именно конфликт интересов позволил перейти к установлению понятий «справедливость – несправедливость». Причем эта возможность появилась благодаря симбиозу личных интересов и интересов общества. « … личный интерес оказывается первичным мотивом установления справедливости, но симпатия к общественному интересу является источником нравственного одобрения, сопровождающего эту добродетель»[56].
На одно замечание «Тракта о человеческой природе» хочется обратить особое внимание. Юм утверждает, что справедливость – это явление искусственное, в природе человеческой нет врожденного чувства ответственности. «… мы должны признать, что чувство справедливости и несправедливости не проистекает из природы, но возникает искусственно, хотя и с необходимостью, из воспитания и человеческих соглашений»[56]. Он понимает, что справедливость субъективна, но пока еще не может объяснить и понять сам почему то «должное», о котором говорил еще Аристотель, не бывает постоянным. Юм осознает, что: «Наше чувство долга всегда следует обычному и естественному течению наших аффектов». «… первоначальное установление правил справедливости зависит от этих отличных друг от друга интересов». [56] Однако в «Трактате» пока не говориться, что те, чувства, понятия (аффекты), о которых говорит Юм, изменяются с течением времени, а с ними вместе меняется и конструкция справедливости и завтра она будет другой, отличной от сегодняшней.
§ 14 Иммануил Кант, автономность разума, этика без ссылок на религию.
Джон Локк, Шарль Монтескьё, Дэвид Юм и многие другие мыслители семнадцатого, восемнадцатого и даже девятнадцатого века они одной ногой еще в Средневековье, а другой уже в Новом времени в капитализме. Особняком стоит Иммануил Кант, кажется, что его работы вне эпох, но такая мысль тоже не будет точной. Он также являлся продуктом своей эпохи, эпохи расставания со Средневековьем. Вряд ли его мысль об автономности человеческого разума была бы понята и принята во времена Фомы Аквинского. Кант дает этическое обоснование правам человека без ссылок на религию, человеческий разум в его понимании уже не является вторичным по отношению к разуму божественному. Соответственно и конструкция справедливости Канта приобретает сугубо гражданские черты. Он считает, что справедливость должна быть выражена в установлении некоего универсального принципа, который бы был подходящим для всех людей.
Сложность установления подобного принципа кёнигсбергский мыслитель прекрасно осознает. Он, как и Руссо, понимает недостижимость идеальной справедливости, но видит смысл в перманентном движении к ней. «Таким образом, этот закон всех законов, как всякое моральное предписание Евангелия, представляет нравственный образ мыслей во всем его совершенстве, коль скоро он как идеал святости недостижим ни для одного существа; но он прообраз, приблизиться к которому и сравняться с которым в непрерывном, но бесконечном прогрессе мы должны стремиться[21].
Кант разделяет справедливость на моральную и юридическую, а взаимосвязь их поясняет – юридическая справедливость это система, которая делает возможным осуществление моральной справедливости. В этих рассуждениях он приходит к неестественности справедливости (как и Юм), к тому, что это не может быть природным феноменом, присутствующим в человеке. Соблюдение справедливости всегда насилие над собой. «Если бы разумное существо могло когда-нибудь дойти до того, чтобы совершенно охотно исполнять все моральные законы, то это, собственно, означало бы, что в нем не было бы даже и возможности желания, которое побуждало бы его отступить от этих законов; ведь преодоление такого желания всегда требует от субъекта самоотверженности, следовательно, нуждается в самопринуждении, т. е. во внутреннем принуждении к тому, что делают не очень-то охотно»[21].
У Канта конструкция справедливости опирается на систему общественных ограничений, которая выражается в законах, традициях, обычаях. Она надрелигиозна и пластична, потому что в ней заложены бесконечные стремления к «прообразу» идеальной справедливости. Человек должен понимать всю низменность многих своих стремлений и желаний, поэтому он должен быть всегда готов к самопринуждению. Одно уважение моральных законов не дает гарантий их выполнения. Их соблюдение всегда борьба, которая требует регламентированной цели. Долг выполнения моральных законов – основной способ формирования принципов человека будущего. Очень интересно его определение свободы: « … практическую свободу можно определить и как независимость воли от всякого другого закона, за исключением морального»[21].
§15 Итоги Средневековья. От божественной справедливости к справедливости разума человеческой личности.
Конструкция справедливости в изложении Канта была последней в разделе Средневековья, но завершая рассуждения о справедливости этой эпохи, не могу не вернуться к относительности классификации трудов, мнений, людей и особенно общественных явлений, формаций, фаз. Очень хорошо об этом сказал Джаред Даймонд в своей книге «Ружья, микробы и сталь»: « … любая попытка четко выделить стадии любой непрерывной эволюции, будь то музыкальные стили, фазы человеческой жизни или социальные формации, изначально обречена быть несовершенной, причем в двух отношениях. Во-первых, поскольку каждая новая стадия вырастает из предыдущей, границы между ними неизбежно произвольны… Во-вторых, порядок развития не всегда один и тот же, поэтому под одной рубрикой в классификации всегда будут встречаться разнородные примеры. (Брамс и Лист перевернулись бы в своих гробах, если бы узнали, что потомки свели их воедино в категории композиторов романтического периода.)»[18] Именно поэтому у нас многие мыслители, идеи которых легли в основу будущей конструкции справедливости Нового времени, описаны в разделе Средневековья.
Это так, однако при всей размытости границ эпохи, трудностей детерминирования, из вышесказанного в этом разделе можно сделать вывод, что изменения в понимании «должного», как основы конструкции справедливости происходили на протяжении всего рассматриваемого периода. Они были неравномерны по скорости и не всегда одинаковы по направлению, но их векторность трудно не заметить. Причем «должное» присущее переходу к капитализму, оно непросто отлично от того, которое было в начале средневековья, оно имеет элементы изменившиеся качественно, но структура остается той же. То есть изменяются сами составляющие, но конструкция состоит из тех же свободы, равенства, прав, возможностей. Фундаментом конструкции остается источник справедливости, только в начале периода это Бог, а в конце, благодаря Канту, наравне с Богом этим источником становится человек, точнее его разум, как олицетворение личности.
Особенно показательны изменения, такого элемента, как личная свобода. На начало периода, рабство – легитимный элемент конструкции, без оговорок. Даже в таких идеальных обществах Томаса Мора в «Утопии» и в «Городе Солнца» Томмазо Кампанеллы, авторы не могут себе представить жизнь без рабства. В течение эпохи появляются сомнения в его законности. Сначала эти сомнения распространяются на людей элиты, затем на соотечественников, наконец во второй половине восемнадцатого века в работах Руссо следует заявление, что рабство и право несовместимы, а право позиционируется, как неотъемлемый элемент гражданского общества. Конечно, рабство продолжает существовать фактически, причем количество рабов велико, в ординарном обществе оно по-прежнему воспринимается, как необходимый элемент жизни, но в интеллектуальной элите рабство, как явление начинают считать позорным. В отношении к личной свободе в течение средневековья происходит настоящий переворот.
Факт признания несовместимости рабства и гражданского общества говорит об изменениях в еще одном элементе конструкции – избирательности справедливости. До начала перехода к капитализму применение принципа справедливости было избирательным во всех элементах, то есть понятие справедливости не распространяется на отдельные группы и целые классы общества.
Впервые в конце восемнадцатого века в области личной свободы возникает прецедент отсутствия избирательности – все люди должны быть лично свободны, без исключения. Только такое положение справедливо и оно должно применяться для всех. Конечно, это пока только декларации, мнение отдельных элит, оно лишь пытается стать основой цивилизации. Рабство продолжает существовать во многих странах, в том числе и считающих себя цивилизованными, в таких как Россия и США.
Свобода политическая в начале периода вообще не имеет смысла, властью обладают лишь монархи и аристократия. Их власть не имеет политической структуры, она чаще всего опирается на грубую силу, выборность скорее исключение, чем правило. В Европе после феодальной раздробленности формируются сильные государства, что усиливает единоличную власть и приводит к появлению абсолютных монархий. Однако к концу средневековья в отдельных странах конструкция справедливости абсолютного монарха подвергается сомнению и появляется новая, в которой верховная власть также должна быть контролируема.
Без сомнения, особняком стоят идеи Этьена де ла Боэси, он вообще отвергает монархию и любую аристократическую власть. Сегодня, даже трудно представить, как человек в середине шестнадцатого века смог дойти до мысли, что власть не от Бога, а от подданных. Правитель имеет именно столько власти, сколько дает подчиненное ему общество. Это идея не гармонирует со Средневековьем, она принадлежит скорее восьмой фазе Постиндустриализма. Слова, что «покорность многих одному» – это не трусость, а порок порожденный незнанием, неумением жить по-другому, актуальны и сейчас. Работа «Рассуждения о добровольном рабстве» говорит о том, что конструкция справедливости сложившаяся в головах отдельных людей уже в XVI веке, радикально отличалась от конструкции Древности и начальной фазы Средневековья, то есть она развивалась и совершенствовалась, проявляла свою векторность.
Появляется не менее важная концепция разделения властей, которая фактически становится фундаментом политических свобод граждан. Выясняется необходимость выборности власти, не могут быть все помазанниками божьими. Кто-то должен заниматься реальными процессами: создавать законы, судить по ним, контролировать исполнение общественных дел. Эти люди должны быть независимыми, их должно быть много, не один человек, а значит необходим механизм выбора. Государства стали обширными и многочисленными, так что опыт древних городских демократий помочь в этом не может.
В конструкции справедливости возникает, как элемент «большинство». Об этом даже подумать не могли в начале средневековья. Впервые возникает призрак общественного мнения, как сила, которая может влиять на судьбу социума. Именно только призрак, потому что коммуникации несовершенны, а избирательные законы примитивны и дискриминационны. Речь пока идет лишь о большинстве в правящей элите, появляются политические партии, хотя они еще мало похожи не то, что мы увидим в Новом времени.
В политической свободе возникает еще одно отличие от начальной стадии – расширяется круг людей, которые могут занимать общественные и государственные должности. Кроме аристократии доступ к должностям получает разбогатевшая буржуазия. Справедливость по-прежнему избирательна, но в ней исключается еще один пункт: привилегии по рождению. Они не искоренены полностью, но отсутствие богатой родословной в некоторых государствах уже не может быть препятствием для занятия самых высоких государственных должностей.
Роль религии в конструкции справедливости изменяется. С приходом эпохи Реформации возникает прецедент возможности мыслить иначе, что в результате долгих сражений выливается в появление законов о веротерпимости, а это приводит к появлению мнения, что источником справедливости является не Бог, а человек.
Реформация дает толчок в еще одном очень существенном элементе конструкции справедливости – отношении к богатству, к частной собственности. Зарабатывать деньги, быть богатым теперь уже справедливо и с точки зрения религиозной и гражданской, чего не было в начале Средневековья.
Пропагандирование правового общества, верховенства законов над любой властью, также изменяет конструкцию справедливости. Теперь утверждается, что справедлив только закон и никто не может его нарушить. В начале эпохи законы, даже если они существовали, мог нарушать верховный правитель и это укладывалось в нормы, существовавшей на тот момент морали. В конце периода в Англии появляется такой документ, как «Билль о правах», который лишает короля права изменять законы, право становится нормой для всех. Справедливость уже основывается на писаных законах, а не только на традициях и силе.
Равенство декларируется во многих странах, как главный принцип существования общества. Хотя это право и остается избирательным, но его применение становится всё шире. В него включается вся буржуазия, мерилом равенства становятся деньги. Богатый человек может чувствовать себя равным в обществе, не имея отношения к древнему роду.
Появляются попытки применять законы равенства к женщинам и детям. Они совсем робкие, однако уже ни у кого нет сомнения, как в начале Средневековья, что эти существа – люди. Возникает феномен детства, становится несправедливым относиться к детям так же, как к взрослым людям. Монтень и Руссо призывают дать возможность детям участвовать в выборе своей участи, порицается насилие в воспитании. Хотя еще продолжается практика физического насилия и даже убийства «ненужных» младенцев, но элита начинает воспринимать детей совершенно по иному, как посланцев в будущее, как своё продолжение.
В новой конструкции справедливости на переходе к капитализму насилие перестает быть легитимным элементом. Еще продолжаются публичные казни, на которые собираются толпы людей, применяются пытки, но появляются первые призывы к пресечению этого. Любое насилие, для людей передовых взглядов, становится несправедливым, применение пыток недопустимым. Появляется гуманизм. Уже в начале XVI века Томас Мор пишет, что даже к преступникам нужно проявлять милосердие, а к простому человеку нельзя относиться, как скоту. Итальянец Беккариа в XVIII веке в своей книге «О преступлениях и наказаниях» доказал, «что пытки и тайное следствие не приводят к выяснению истины, что наказания должны быть соизмеримы с преступлениями»[19].
Возникает новый или точнее забытый старый, элемент справедливости – польза. Внедряется мысль, что справедливо то, что полезно. Именно в пользе – справедливость. Понятие пользы начинает применяться не только в личном плане, но и для всего социума, что является качественным изменением.
Вектор совершенствования справедливости приводит нас к капитализму, элементы конструкции Нового времени будут существенно отличаться от средневековых, но этому будет предшествовать большая работа умов, огромные моральные и физические усилия.
Часть III.
Новое время
§ 1 Джереми Бентам, польза – главный критерий справедливости.
Обзор дальнейшего изменения представлений о справедливости в наступившем Новом времени мы начнем с Джереми Бентама. Описание Средневековья завершалось упоминанием о применении в конструкции справедливости такого элемента, как польза. Бенедикт Спиноза и не только он последовательно внедряли его в новую концепцию справедливости. Бентам же стал одним из основателей философии Утилитаризма в её основе как раз и лежит принцип пользы и именно от латинского «utilitas» – польза она получила своё название.
Мы начинаем раздел Нового времени с фигуры Бентама не только для того, чтобы показать преемственность и непрерывность совершенствования понятий справедливости, но и потому что именно его работы положили важные камни в фундамент концепции справедливости капитализма, то есть тех социально-экономических отношений, которые стали главными в Новом времени.
При описании перехода из Древности в Средневековье мы отмечали, что качественно конструкция справедливости изменилась, но не в строну прогресса, а наоборот в строну возврата к позициям предыдущей фазы. Тогда большое количество ранее свободных людей, потеряли её, стали зависимыми лично и экономически. Они не были рабами в представлении Древности, но их личная свобода пострадала, эксплуатация возросла.
Похожая ситуация произошла и в следующем фазовом переходе – к Новому времени. При активном продвижении к капиталистическим отношениям большое количество людей обрели личную свободу, но при этом потеряли все средства к существованию, обычно это была земля. Они обрели личную свободу, но стали абсолютно зависимыми экономически. Наемный труд является двигателем капитализма, но люди которые стали ним заниматься почти потеряли человеческий облик. Они работали по шестнадцать часов в сутки и не имели другого выбора, кроме этой работы или смерти. Крестьянин, не обладая личной свободой, но имея земельный надел, без сомнения жил трудно, но когда он сменил этот статус на положение лично свободного наемного рабочего, его превратили из человека в производственный механизм, не имеющий никаких прав кроме права работать. Эксплуатация невероятно возросла, нещадно эксплуатировали даже детей. Такое положение требовало оправдания, оправданием становится польза. Она назначается главным критерием справедливости, остальные элементы отодвигаются на второй план, а то и полностью отвергаются.
Бентам считает, что естественные права человека и свобода это нечто умозрительное, не имеющее никакой практической пользы. Естественные права – путь к анархии, свобода – не более чем разновидность своеволия, а значит они не могут принести счастья. Счастье, с его точки зрения, вполне осязаемая величина, большýю часть своей жизни он посвятил попыткам математического исчисления счастья. Была изобретена простая формула: «К счастью нужно стремиться, а достигается оно с помощью полезных дел». Принципом справедливости объявляется достижение наибольшего счастья для наибольшего числа индивидуумов, об этом пишет Бентам в своей книге «Введение в основание нравственности и законодательства».[6]
Красиво сказано, но для Бентама счастье и удовольствие на практике имеют одинаковый смысл. Его моралью становится «достижение пользы, выгоды, удовольствия, добра и счастья»[6]. Из этих слов очень логично прорастает нормальный капиталистический призыв – обогащайся. Обогатившись, ты сможешь получить максимум перечисленных факторов. Счастье одного человека приплюсуется к счастью другого и от этого общая сумма счастья человечества станет большей, то есть, обогащаясь лично, ты работаешь на всё общество, делаешь его счастливее.
На первый взгляд кажется, что конструкция очень проста, она прямая, как оглобля. «Должное» – это приносить пользу, неважно кому, особенно хорошо, если себе. Польза для себя это осязаемо, часто её можно даже пощупать, а значит, её можно будет прибавить к общему счастью и увеличить счастье человечества в целом. Но не всё так просто в концепциях Бентама.
Он первым создал стройную теорию «должного», как основу справедливости. Этому посвящена его работа «Деонтология или Наука о морали»[5], в ней был придуман специальный термин «деонтология», как обозначение науки о нравственности. Определение образовано от греческих слов обозначающих понятия «должное» и «учение», то есть науку о нравственности, морали, справедливости он обозначил, как учение о «должном».
Конструкция справедливости Бентама построена на тождественности нравственности и пользы. Свобода, как категория раздражает английского мыслителя, а права личности он почитает истинным воплощением зла.
Это можно объяснить тем, что он видел результаты таких лозунгов на примере Великой французской революции. Террор и анархия масс, бушующие несколько лет по всей Франции, оттолкнули его от этих слов.
Но в его концепции на фоне отрицания свободы, как категории, присутствуют суждения, которые трудно не интерпретировать, как стремление к ней. Бентам поддерживает свободную торговлю и конкуренцию. Он призывает не притеснять индивидов, «не позволяйте другим притеснять их и вы достаточно сделаете для общества», то есть фактически защищает свободу личности. Несмотря на длительные колебания, связанные опять же с французской революцией, он в конце концов отвергает монархию и становится сторонником республиканского устройства, которое немыслимо без определенного набора свобод. Бентам ценит человеческую личность и придает этому особое значение. Он считает, что основная сила состоит именно в отдельных личностях, а не в обществе в целом, деонтология должна придать социальным мотивам всю силу личных мотивов.
По его мнению, общество не может преодолеть индивидуальные устремления отдельных индивидов, поэтому социальная политика должна основываться на приоритете личных мотивов. Свободная конкуренция отдельных эгоистических порывов обеспечит спокойствие в обществе и принесет справедливость.
Такая кажущаяся нелогичность – с одной стороны отторжение свободы, с другой её яростная поддержка, вероятно, может быть объяснена высокой прагматичностью Бентама, как человека. Он разделяет свободу действий и свободу человека, первое можно описать, например, в законах, а второе представляется ему совершенно аморфной непрактичной категорией. Поэтому он считает, что свободу и права человек обретает через действие, принося пользу.
Бентам был практиком: юристом, просветителем, активным общественным деятелем. Он выступал за запрещение рабства, отвергал легитимность пыток и телесных наказаний, считал, что неотвратимость наказания важнее, чем его жестокость. Поддерживал политическое и социальное равноправие женщин – предоставление им права голоса на выборах и права на развод. Он считал, что свобода слова является неотъемлемым атрибутом нормального общества, без неё невозможна свободная конкуренция. Он одним из первых в постсредневековой Европе поднял вопрос защиты животных, считал необходимым принятие особых законов об этом.
Как мы видим, его конструкция справедливости во многом отличается от средневековой, в которой присутствует легитимность рабства, бесправие женщин, поощрение насилия. Она уже похожа на современную нам конструкцию постиндустриального общества с неограниченным избирательным правом для женщин, осуждением любого насилия, разделением властей. Бентам даже был сторонником отмены наказания для гомосексуалистов, что для христианской средневековой Европы было просто удивительно и совсем не удивительно для Европы современной.
Идеи Бентама о пользе, как мере нравственности, в начале девятнадцатого века были очень популярны. Так как по своей основной профессии он был юристом, то и главным методом достижения справедливости считал установление правильных законов, чему и посвятил почти всю свою жизнь. В кодексах законов многих европейских государств до сих пор прослеживается след Джереми Бентама.
Будучи сторонником индивидуализма, он отрицал общественный договор, считая, что соревнование личностей составляет основу общественных отношений, а они ввиду своего эгоизма друг с другом договариваться не намерены. Государство же создается лишь «насилием и привычкой», а отнюдь не соглашением сторон. Он описал четыре постулата утилитаризма, в одном из которых определил цель жизни, как максимум всеобщей пользы через гармонию одного и всех. Механизм достижения этой гармонии Бентам не пояснил, но межличностный общественный договор отрицал.
Он не различал понятий договор, соглашение и согласие. Далеко не всякий договор принимается при удовлетворении всех сторон, общественный договор чаще всего принимается на основе полного согласия лишь одной стороны, а другая его принимает под давлением. Принцип «консенсуса» стал применяться при принятии решений на уровне государства совсем недавно и только в некоторых странах. В этом случае решение принимается не большинством, а только при отсутствии возражений по существенным вопросам, то есть при согласии всех участников. То есть можно считать, что общественный договор принимает различные формы и определение Бентама об идеальном обществе, как гармонии одного и всех, в принципе допустимо рассматривать, как разновидность общественного согласия.
§ 2 Адам Смит, невидимая рука рынка, справедливость эгоизма.
Бентам был известным человеком и работал конечно не в вакууме, он был окружен умными и деятельными людьми, например, его современником был Адам Смит они общались, переписывались. Смит был старше основателя утилитаризма на двадцать пять лет и сегодня он даже более известен в широких кругах общественности, чем Бентам. Казалось бы, что более логичным было бы начать обзор Нового времени с работ Смита. Его называют основоположником экономики капитализма, а его теория свободной конкуренции до сих пор в ходу, на знаменитую «невидимую руку рынка» экономисты ссылаются и сейчас.
Однако Адам Смит в отличие от Бентама не был общественным деятелем. Он вел достаточно замкнутую жизнь, иногда она была просто затворнической. Лекции, которые он читал студентам и книги, были главными источниками популяризации его идей. Известность Бентама распространялась на всю Европу и докатилась даже до Российской империи. Он обращался ко многим правительствам с предложением о реформах законодательства, введении кодифицированного права. Смит же даже после опубликования своего великого труда «Исследование о природе и причинах богатства народов» был известен в основном лишь в Англии и Франции. Многими, особенно богатыми землевладельцами его идеи сразу приняты не были и их широкое распространение началось примерно в одно время с идеями Бентама о нравственности пользы. Их взгляды на справедливость были схожими. Оба пытались доказать обществу, что не праздность аристократов, а активная предпринимательская деятельность, приносящая пользу – вот главный элемент общественной жизни.
Адам Смит, конечно, в первую очередь известен, как основоположник классической теории экономики, но одну из своих первых работ изданную еще в 1759 году он назвал «Теория нравственных чувств» и собственно в экономической теории, изложенной в «Богатстве народов», один из главных элементов это новые этические понятия, то есть собственно рассуждения о справедливости. Мы помним, что основы этой этики были заложены в религиозных воззрениях реформаторства, но первым так структурировано это сделал Смит.
Его конструкция справедливости гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд и чем её представляют в разных «умных» книжках. Обычно на первый план выставляют обоснование легитимности эгоизма. С одной стороны это так, Смит обращается именно к этому чувству, говоря о мотивах обмена на рынке, он считает личные интересы единственной мотивацией в этом процессе.«Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму и никогда не говорим им о наших нуждах, а лишь об их выгодах» [47], – пишет Смит.
По его мнению, сумма эгоистических действий отдельных личностей должна привести к наибольшему богатству общества, к тому что, собственно говоря, является целью хозяйственной деятельности. С другойстороны, слова эгоизм, эгоистический часто носят в его произведениях негативный характер. Например, он пишет: «Нет, пожалуй, таких суетных эгоистических удовольствий, пристрастие к которым не разоряло бы иной раз даже благоразумных людей; страсть к петушиным боям, например, разорила многих».[47] (Выделение и курсив мой А. С.) То есть в этом контексте для Смита слова суетный и эгоистический – почти синонимы и несут ярко выраженный негативный окрас. В «Богатстве народов» в главе «О накоплении капитала или о труде производительном и непроизводительном» он ставит рядом слова «низменные и эгоистические» применительно к наклонностям, также имея в виду негативные качества человека.
Смит часто рассматривает ситуацию отстраненно, без оценки, только лишь подтверждая факт. Эгоизм описывается ним, как единственный мотив в эффективной экономике, но пояснение, что он полезен только лишь в строго конкретных случаях следует далеко не всегда.
Мораль Смита глубока и представляет собой сложную конструкцию из признания полезными и справедливыми некоторых негативных черт человеческого характера и постановки ограничений в их применении. На первом месте у него равенство возможностей, свобода конкуренцииво всех видах предпринимательства. Он, например, отстаивает, кстати также как и Бентам, свободу ростовщичества, что совершенно противоречило современной им морали католической и православной церкви. Смит считает это занятие справедливым, и требует невмешательства в действия ростовщиков, но эти свободы и равенство должны быть благоразумными, основа благоразумия – рациональность. Возникает знаменитый «экономический человек», который при всевозможных свободах не ведет себя подобно дикарю, а совершает только продуманные, «рациональные» поступки, соответствующие определенным нормам. Например, Смит не допускает, что человек, не расплатившийся с долгами по одному кредиту, будет брать другой, тем самым загоняя себя в долговую яму из которой ему не выбраться. Человек, которому дано право свободной конкуренции, должен быть благоразумным, в противном случае у него нет этого права.
Именно рациональность человека, принятая Смитом apriori, должна быть гарантией успеха свободных рыночных отношений. Бентам был более сдержан и считал, что необходимо, давая свободу, определять её границы, за которыми уже государство будет регулировать движения рынка.
Большая часть общества восприняла теорию Смита, как легализацию стремления к необузданной наживе, как расцвет меркантильности. То есть неравенство, возникающее в процессе свободной конкуренции – справедливо! Но так ли это? Получать прибыль в рамках свободного рынка – вот справедливость Смита, но он никогда не брал на себя смелость утверждать, что деление на бедных и богатых это справедливо. Согласитесь, что это не одно и то же?
Свободный рынок всего лишь метод, благодаря которому все члены общества станут обеспеченными. Он не должен давать процветание одним и бедность другим, в этом его справедливость . «Ни одно общество, без сомнения, не может процветать и быть счастливым, если значительнейшая часть его членов бедна и несчастна. Да, кроме того простая справедливость требует, чтобы люди, которые кормят, одевают и строят жилища для всего народа, получали такую долю продуктов своего собственного труда, чтобы сами могли иметь сносную пищу, одежду и жилище», – утверждает Смит. [1]
Он выступал за равенство возможностей и невмешательство в конкуренцию, как внутри страны, так и между странами. И это действительно справедливо не только с позиций восемнадцатого века, но и сегодняшнего дня. Любое неравенство, в том числе и неравенство возможностей, он связывал с бедностью. С его точки зрения бедность является одним из главных источников неравенства, поэтому решать проблему неравенства не решив проблему бедности нельзя.
В своей статье «Адам Смит и современность» лауреат Нобелевской премии в области экономики Амария Сен пишет: «Смит не считал чистый рыночный механизм абсолютным идеалом. Не говорил он и о том, что имеет значение лишь мотив личной выгоды. В «Теории нравственных чувств» Смит чрезвычайно ясно и убедительно продемонстрировал важность мотивов, которые выше своекорыстия, и даже вышел за пределы более утонченной мотивации, которую он называл «благоразумием»[1].
Смит понимал, к чему могут привести отношения свободного рынка, отношения крайнего меркантилизма. Безудержное стремление к прибыли, а значит к накоплению больших богатств, должны породить еще большее неравенство: «Где есть большая собственность — там есть и большое неравенство»[48]. В этой связи он рассуждает о жадности и честолюбии, как о явлениях несовместимых с моралью. «Жадность преувеличивает различие между бедностью и богатством, честолюбие – различие между частной жизнью и общественной, пустая суетность – различие между неизвестностью и блестящей репутацией»[47].
Смит проповедует свободу предпринимательства, идею свободного рынка, понимая глубину возможного морального падения. К сожалению с его подачи экономическое неравенство стало не просто фактом, но и что гораздо важнее – нормой, однако это видимо тот самый феномен, который пока движет прогрессом. У нас нет выбора между хорошим и очень хорошим, мы вынуждены выбирать из многих зол меньшее, чтобы развиваться дальше. В меркантильности и эгоизме предпринимателя Адам Смит видит меньшее зло, чем в тех же чувствах феодальных правителей. С первыми еще как-то можно справиться, ограничить их мудрыми законами, к тому же с ними можно накопить не только личное богатство, но и богатство для всего общества. А вот с феодальными правителями, для которых главный закон – их собственные необузданные желания, с ними договориться нельзя и общество с ними богатым не станет. Их главное различие не в мотивах, они похожи, а в том, что предприниматель вкладывает прибыль в развитие предприятия, а феодальный правитель в замки, драгоценности, развлечения в то, что съедает эту прибыль и не служит дальнейшему развитию.
Смит считал, что предпринимателя можно заставить быть благоразумным, а правителя нельзя. Он активно пишет об этом в «Исследовании о природе и причинах богатства народов»: «Все для самих себя и ничего для других — таково во все времена было, по-видимому, неизменное правило властителей рода человеческого». [47] «Насилия и несправедливость правителей человечества — старинное зло, против которого, боюсь, природа дел человеческих вряд ли знает лекарство. Но низменной жадности, монополистическим стремлениям купцов и промышленников, которые ведь и не являются и не должны являться владыками человечества, можно очень легко воспрепятствовать нарушать чье-либо спокойствие, кроме их собственного, если уже нельзя совсем вылечить их от этих пороков»[47]. Как видно из цитаты, он с осуждением относится к низменным мотивам предпринимателей, но находит, что эти чувства можно ограничить, до той степени, чтобы польза от их эгоизма была большей, чем вред.
Из этой цитаты можно извлечь еще одно заблуждение великого классика, он не может себе представить, что «купцы и промышленники» станут владыками жизни. В эпоху Постиндустриализма они ними стали и этим практически разрушили конструкцию справедливости Адама Смита. Слияние власти и эгоизма предпринимателей поставило новые задачи на пути совершенствования морально-этических норм уже у людей постиндустриального этапа – крайней части Нового времени.
Гарантом конструкции справедливости у Смита, как и у многих его предшественников и последователей должно стать правовое государство или как он его называет «гражданское управление». Он поддерживает разделение властей, особо подчеркивает важность независимости судебной власти.
В его конструкции справедливости очень важное место занимает доверие. Смит считает, что оно является необходимым элементом не только для развития торговли и промышленности, но и для поддержания спокойствия в обществе. Гражданин должен доверять всем своим властям: судебным, законодательным и исполнительным, иначе общество не может стать справедливым.
Важнейшей функцией гражданского правления Смит видит защиту собственности. Он подчеркивает, что оно учреждено для защиты богатых от бедных, потому что у бедных нечего защищать. Кажется такая трогательная забота о богачах, но наряду с этим в «Теории нравственных чувств» Смит пишет, что главная причина искажения нравственных чувств – это презрение к бедным и постоянная готовность преклоняться перед богатыми. В конструкции справедливости Смита гражданское правление, как механизм защиты собственности это не привилегия богачей, а средство обеспечения порядка для всего общества, стержень обеспечения справедливости. С его точки зрения защита частной собственности должна стимулировать людей к действиям по её приобретению, как богатых, так и бедных, пока еще её не имеющих.
§ 3 Экономика – основа справедливости Нового времени.
Самое существенное изменение в конструкции справедливости Нового времени по сравнению с предыдущими этапами это усиление роли экономической составляющей. Попытки посчитать счастье, добродетель, пользу вращаются вокруг одной и той же оси – справедливости выраженной в материальных величинах.
Значимая часть общества, которая сформировалась из верхушки городского населения, наиболее финансово обеспеченная, стремилась к укреплению своего положения. Очень близок к определению этой группы термин буржуазия, то есть наиболее богатые выходцы из купцов, ремесленников, мануфактурщиков иногда из аристократов, особенно обедневших. У Маркса эта группа характеризуется тем, что буржуа владеют собственностью и имеют от неё доход, но более важной характерной чертой является то, что этот доход получается от предпринимательской деятельности.
В сравнении с эпохой Средневековья эти люди стали еще более экономически независимыми и влиятельными. Они уже почти не переживали за свою личную свободу, к началу девятнадцатого века трудно представить, что кого-то из правящей верхушки могли просто так, фактически бесправно, казнить, как например Томаса Мора в середине шестнадцатого.
В XVII – XVIII веках произошло несколько революций, которые способствовали укреплению положения буржуазии. В результате Великой Французской революции власть формально была передана народу. Свергнув монархию и аристократов, население некоторое время наслаждалось политической властью, забыв у кого находится власть экономическая. Эйфория победы над аристократией затмила разум, анархия торжествовала на улицах. Буржуазия очень быстро перетянула политическую власть к себе, за ней стояла сила высокого интеллекта ифактическая власть в экономике.
Во Франции она просто захватила власть, делегаты из народа почти все сплошь оказались её представителями, но власть для оправдания своего существования должна иметь вид справедливой. Поэтому на помощь призываются теории политической экономии. Провозглашенное всеобщее равенство, подвергается уточнению. Подтверждаются гарантии свобод политических, но свободы экономические упираются в свободу обладать и защищать свою частную собственность. Полное экономическое равенство, которым бредили санкюлоты, в новой конструкции справедливости на деле оказалось теоретически равными экономическими возможностями.
Все люди, из которых состоит народ, равны. Социальная справедливость должна обеспечиваться равными политическими и экономическими правами. Право – вот главный стержень справедливости Нового времени. Причем на первый план выходит право, которые регулирует именно экономические отношения. Давид Рикардо – последователь иодновременно оппонент Адама Смита утверждал, что справедливость общества может быть достигнута, если оносможет определить правильные законы управляющие распределением доходов.
Это конечно не значит, что другие элементы в конструкции справедливости выпадают. Например, Адам Смит отвергает насилие и обращает внимание на права детей. Он ужасается и осуждает обычаи Древней Греции: « … убийство новорожденных младенцев было делом обыкновенным почти для всех племен Древней Греции, даже для афинян, самых просвещенных среди них»[24]. Он видимо не знает или не хочет акцентировать на этом внимание, что подобная практика была распространена не только в древности, но и в современных ему государствах, даже считавшихся вполне цивилизованными, например, в России, не говоря уже о диких племенах Африки и Азии.
Вспомнив о других континентах необходимо сказать, что о конструкции справедливости начала периода Нового времени, которая сложилась в XVIII и начале XIX веков можно говорить лишь применительно к территориям Европы и части Северной Америки. На остальных континентах общество находилось в состоянии Средневековья, а на огромных территориях Африки, Австралии и частично Азии и Южной Америки не достигли и даже этого уровня.
§ 4 Билль о правах США и Кодекс Наполеона
Во второй половине XVIII века очень важные события, повлиявшие на дальнейшее развитие конструкции справедливости, произошли в Северной Америке. Колонии, принадлежавшие Британии, воспротивились диктату метрополии и в результате войны отделились от империи, которая к тому моменту уже была конституционной монархией. Перед отцами-создателями новой страны встал вопрос о государственном устройстве, принципах построения общества. Новой стране хотелось новизны, всего передового, того, чего нет нигде на планете.
Будущие США находились на значительном отдалении от Европы и не только в географическом смысле, власть центра была не сильна, здесь изначально приживались свои – вольные нравы, это порождало стремление ко всему новому. Из Старого света на континент ринулось множество искателей лучшей жизни, которые очень часто были противниками недемократичных европейских порядков.«Сюда хлынул поток всяческих религиозных диссидентов, включая гугенотов, пресвитериан, квакеров и даже евреев. Благоприятные идеологические условия способствовали просвещению - с 1636 по 1769 г. было основано семь колледжей и университетов».[19] Складывалось общество непохожее на европейское.
Колонии всячески противились притеснениям метрополии, в первую очередь в сфере экономической. Британия как могла тормозила промышленное развитие в новых землях, а это очень не нравилось колонистам и в 1774 году был созван Континентальный конгресс, который «выразил протест английскому парламенту против нарушения «прав человека» [19]. Вскоре началась война, которая привела к отделению колоний от Британии и принятию в 1776 году Декларации независимости. В течение последующих пятнадцати лет был принят еще ряд документов, которые сыграли великую роль в совершенствовании конструкции справедливости Нового времени: Конституция США и первые десять поправок к ней, названные Биллем о правах.
Отцы-создатели США продекларировали нерушимость естественных прав человека на «жизнь, свободу, стремление к счастью». Подчеркнули неопровержимое право народа на свержение правительства, если оно «выявляет намерение подчинить людей абсолютному деспотизму», закрепили законодательно разделение властей и гарантии индивидуальных свобод. Например, в Билле о правах закрепляется «свобода слова, свобода религии, свобода прессы, свобода собраний, право на подачу петиций и суд присяжных».
Это были первые в истории документы, в которых так полно излагались и закреплялись основные права человека, недаром Билль о правах послужил основой для создания Всеобщей декларации прав человека принятой Организацией Объединенных Наций в 1948 году, то есть более чем полтора века спустя.
Конституция США 1789 года и Билль о правах 1791 года были колоссальным прорывом в построении новой конструкции справедливости, но с сегодняшней точки зрения все было далеко не идеально. Всё равно принятые законы оставались избирательными, они не распространялись на коренное население Америки, в них не были отражены права женщин и детей, не было отменено рабство, избирательное право не стало всеобщим. Несмотря на явный прогресс по отношению к предыдущим эпохам, концепция справедливости фазового перехода к Новому времени существенно отличалась от той, которую мы можем наблюдать сегодня.
В Северной Америке над концепцией справедливости работали такие выдающиеся мыслители: Томас Джефферсон, Бенджамин Франклин, Джон Адамс, Джеймс Медисон. В Европе их деятельность не осталась незамеченной. В Британии усилиями Джона Стюарта Милля продолжала развиваться концепция справедливости утилитаризма, в Германии Георг Гегель утверждал, что именно в осознании свободы состоит смысл человеческой истории, во Франции Алексис де Токвиль развернуто изложил идеологию демократического либерализма. Европа бурлила, это был период множества революций, утверждалась новая система социально-экономических отношений. Процесс был неравномерным, одни страны обгоняли, строили правовое общество, другие цеплялись за средневековье с властью силы, усиляли централизм, искореняли демократию.
После поражения Наполеона Бонапарта в Европе на некоторое время воцарила тенденция возврата к автократии и отходу от демократических воззрений, но это длилось недолго. Зерна свободы, посеянные в головах миллионов людей, не могли не дать всходов. Свобода мысли породила множество теорий. В Средневековье хотя и имелся широкий спектр взглядов по поводу справедливости, но худо-бедно их можно было свести в одну, хоть и неоднородную конструкцию. В эпоху Нового времени родилось и продолжаетпараллельно существовать сразу несколько существенно отличающихся друг от друга концепций справедливости. На самом деле их много, но всё многообразие можно условно разделить на две группы: либеральные и коммунистические. Зарождение этих конструкций, как раз пришлось на век девятнадцатый. При детальном рассмотрении концепций обеих групп между ними обнаруживается много общего, все они декларируют торжество тех элементов, которые присутствовали с момента появления первых конструкций: свободу, равенство, права человека. Различна трактовка отдельных элементов и их приоритетность, именно эти детали породили десятки революций и войн.
После появления США и завершения Наполеоновских войн мысль не стояла на одном месте. Во-первых, несмотря на поражение Наполеона и восстановление монархий, укрепление автократии во многих государствах Европы, произошло событие, которое приносит свои плоды до сих пор. В 1804 году были принят так называемый Кодекс Наполеона – система законов, которая стала образцом для создания кодифицированного права во многих государствах мира, а во Франции Гражданский Кодекс 1804 года с изменениями действует до сих пор.
Такая система сыграла большую практическую роль в становлении конструкции справедливости Нового времени. Законы стали не просто более понятными, они стали взаимосвязанными, появилась логика в их расположении в общем своде, а следовательно упростилось использование. Существенная часть «должного» обрела форму, удобную в применении, а значит трактовка справедливости, при усложнении общественных отношений, стала более доступной и адекватной.
Товарно-денежные отношения сделали жизнь человечества невероятно разнообразной и сложной. Понятие справедливости в условиях такой жизни обрело множество деталей, которых не было ранее. Увеличилось количество людей, которые стали остро задумываться над этим. Это произошло не только потому, что произошел демографический взрыв, но и потому что вырос средний интеллект людей, уровень образования, когнитивная сложность мышления.
§ 5 Георг Гегель, реальность разума
Георг Гегель выходец из семьи лютеран изгнанных из Австрии в период контрреформации. Его протестантская критичность породила великие идеи. В своей работе «Феноменология духа» он раскрывает тонкости взаимоотношений людей с помощью неординарных методов. Гегель считает, что справедливость естественно заключена в нашем разуме, но жизнь человеческая часто несправедлива, насилие и рабство процветает. Онпытается объяснить, почему один человек поработил другого и рабство на протяжении тысячелетий остается неотъемлемым элементом человеческой жизни. Стремление утвердить самостоятельность «своего-для-себя-бытия» привело к рабству, но насилие сопутствующее этому, утверждает немецкий философ, не может быть «основанием права». Это происходит лишь потому, что люди «еще не возвысились до понятия абсолютной свободы, ибо они не познали еще того, что человек как таковой - как вот это всеобщее "я", как разумное самосознание - имеет право на свободу».[15]
Гегель считает, что рабство и тирания необходимые этапы в развитии всех народов и: «В отношении тех, кто остается рабами, не совершается никакой абсолютной несправедливости; ибо, кто не обладает мужеством рискнуть жизнью для достижения своей свободы, тот заслуживает быть рабом, и, наоборот, если какой-нибудь народ не только воображает, что он желает быть свободным, но действительно имеет энергичную волю к свободе, то никакое человеческое насилие не сможет удержать его в рабстве как в состоянии чисто пассивной управляемости». [15]
Он утверждает, что не только раб зависит от господина, но и господин зависит от раба. (Похожие мысли за полтора столетия до Гегеля высказывал Ла Боэси). Пока он содержит в рабстве человека, он не может быть истинно свободным. «Только через освобождение раба становится, следовательно, совершенно свободным также и господин». [15] Гегель показывает, что понятие свободы взаимно и невозможно быть истинно свободным в несвободном обществе.
Конструкция справедливости Гегеля сложна и она часто не совпадает с концепциями многих его предшественников, в частности отцов-создателей США. Он сторонник монархии и имеет своё эксклюзивное представление о народе: «Народ, взятый без своего монарха и непосредственно связанного с последним расчленения целого, есть бесформенная масса, уже больше не представляющая собою государства и больше уже не обладающая ни одним из определений, наличных лишь в сформированном внутри себя целом, не обладающая суверенитетом, правительством, судами, начальством, сословиями и чем бы то ни было». [15]. Народ для Гегеля не субъект, не носитель власти, не обладатель прав, он не может быть самостоятельным, ему обязательно нужен поводырь – монарх.
В тоже время Гегель показывает ценность свободного духа и права, по его утверждению право является первым объективным проявлением свободного духа, оно есть осуществление свободной воли. Моральное требование правды и добра – это долг, который должен препятствовать проявлениям злой воли. Но его конструкция справедливости избирательна, она создается лишь для элиты, для людей способных к высшей разумной деятельности. В простом народе Гегель не видел таких способностей и это на первый взгляд объяснимо. В начале Нового времени переход снизу социальной лестницы в элиту был практически невозможен, а масса бедного населения не обладала ни образованием, ни интеллектом. Гегель не видит потенциальных возможностей каждого человека, для него глупость бедности вечна и первопричина этой глупости не в бедности, а в самом человеке. В этом есть некоторая фатальность, предопределенность и даже мистичность.
§ 6 Джон Стюарт Милль, польза индивидуальности.
В теориях Джона Стюарта Милля нет мистики, онприземлен и прагматичен. Для него роль пользы в обществе более важна, чем роль духа, считается, что именно он ввел в обиход термин «утилитаризм». Продолжая традиции Бентама о первенстве принципа пользы, он совершенствует конструкцию справедливости Нового времени в трактате «О свободе»: «Я признаю пользу верховным судьей для разрешения всех этических вопросов, т.е. пользу в обширном смысле, ту пользу, которая имеет своим основанием постоянные интересы, присущие человеку, как существу прогрессивному»[33].
Рассматривая взаимосвязи власти и личности, Милль задается вопросом: «А до каких пределов должна простираться власть общества над индивидуумом»? Речь идет не только о прямом государственном регулировании индивидуальных свобод, но и об общественном мнении, традициях, которые во многих случаях обладают не меньшей тиранией, чем известные деспоты и диктаторы. «Никто не имеет права принуждать индивидуума что-либо делать, или что-либо не делать, на том основании, что от этого ему самому было бы лучше, или что от этого он сделался бы счастливее, или наконец, на том основании, что, по мнению других людей, поступить известным образом было бы благороднее и даже похвальнее»[33], – пишет Джон Милль.
Мнение «других людей» о том, что кому-то от этого будет лучше, не может быть основанием для принуждения. Тирания большинства, тирания общественного мнения также плоха, как и тирания единоличная. В работе «О свободе» Милль пишет: «… недостаточно иметь охрану только от правительственной тирании, но необходимо иметь охрану и от тирании господствующего в обществе мнения или чувства…»[33]. Для него роль мыслящей части общества не менее, а возможно и более важна, чем роль большинства: «Общей тенденции, которая привела к тому, что мнение масс, состоящих из серединных людей, повсюду сделалось или делается господствующей властью, - этой тенденции должна, по-видимому, противодействовать все более и более резко обозначающаяся индивидуальность мыслящих людей»[33]. Милль считает, что каждый человек сам лучше других способен защитить свое собственное здоровье, физическое и интеллектуальное. Он с горечью констатирует – общество не осознает, что свободное развитие индивидуальности есть одно из первых «существенных благ» человеческой жизни, именно этим фактором определяются образование, воспитание, просвещение и наконец, цивилизация. У человека всегда должен быть выбор и именно благодаря тому, что каждый человек регулярно делает его, у него появляется способность «понимать, судить, различать, что хорошо и что дурно».
Отстаивая свободу индивидуума Милль однако подчеркивает, что охрана индивидуальности должна не ослаблять, а усилять её «самоотверженное стремление к благу других», но не «кнут и плеть» должны убеждать индивидуальности в том, что является благом, а иные средства. «Я не менее, чем кто-либо, высоко ценю личные добродетели, я утверждаю только, что по сравнению с социальными добродетелями они стоят на втором месте, если только еще не ниже», [33] – утверждает он.
Традиции, обычаи часто лишают человека выбора, тем самым подавляют его ум. Разнообразие мнений вот путь к рациональному решению проблем стоящих перед обществом. Традиционное, стандартное мышление не может способствовать прогрессу. « Я сказал, что в высшей степени важно дать как можно более простору тому, что не соответствует обычаю, для того чтобы можно было видеть, из несоответствующего обычаю не заслуживает ли что-нибудь быть обращенным в обычай»[33]. Традиции должны играть существенную роль в развитии общества, но должна существовать «сфера индивидуальной свободы». «Сюда принадлежат, во-первых, свобода совести в самом обширном смысле слова, абсолютная свобода мысли, чувства, мнения касательно всех возможных предметов, и практических, и спекулятивных, и научных, и нравственных, и теологических»[33].
В конструкции справедливости Джона Стюарта Милля государство и государственное регулирование в отличие от настроений средневековых мыслителей несет уже явно негативную окраску. По его мнению, всякое усиление правительственного влияния: « … увеличивает число людей, возлагающих на правительство свои надежды и опасения, превращает деятельных и честолюбивых членов общества в простых слуг правительства»[33]. То есть, по сути, это перекладывание собственной ответственности на государство. Если бы все предприятия, органы просвещения, банки стали бы правительственными, то свобода бы исчезла, считает он. Более того: «Если правительство возьмет на себя удовлетворение всех этих общественных потребностей, для удовлетворения которых необходимы организованное действие сообща, широкая обдуманная предприимчивость, и если при этом оно привлечет к себе на службу самых способных людей, то тогда в государстве образуется многочисленная бюрократия, в которой сосредоточится все высшее образование, вся практическая интеллигенция страны (мы исключаем из этого чисто спекулятивную интеллигенцию), - вся остальная часть общества станет по отношению к этой бюрократии в положение опекаемого, будет ожидать от нее советов и указаний, как и что ей делать, - тогда честолюбие самых способных и деятельных членов общества обратится на то, чтобы вступить в ряды этой бюрократии, и раз вступив, подняться как можно выше по ступеням ее иерархии»[33].
Интересно в этой цитате то, что в ней Милль очень похоже описывает ситуацию, которая в то время сложилась в Китае. Там к девятнадцатому веку не сформировалась прослойка предпринимателей, которая двинула вперед Европу и Америку. Избыточно стабильная бюрократическая система, конфуцианство, которое стало общенародным образом жизни, противились созданию самостоятельно мыслящих индивидуумов. «Если в Западной Европе оказавшаяся в шестой фазе интеллигенция смыкалась с буржуазными предпринимателями и результаты ее мыслительной деятельности шли на пользу капиталистическому производству, то в Китае интеллигенция проявляла себя в области подготовки к прохождению государственных экзаменов и затем вливалась в состав бюрократии (или уходила в буддистские монастыри - заповедники культуры). Побудительной силой любого бюрократического общества является импульс «ничего не надо делать». Предпринимательство в Китае было лишено всякой идеологической или социально-психологической основы; нагнетались внешние, декоративные функции власти»[19], – пишет И.М. Дьяконов в своей книге «Пути истории».
Концепция справедливости Милля работает на индивидуальное предпринимательство, а устаревшая конструкция Конфуция оставляет Китай в средневековье. Чем это обернулось теперь нам уже известно – фактической колонизацией разными странами, как континентальной, так и островной части Китая в XIX веке. Милль против бюрократии потому, что там где она захватывает власть ничто не может быть сделано противно её интересам. «В таких странах правители настолько же рабы бюрократической организации и дисциплины, насколько управляемые – рабы правителей. Китайский мандарин есть в такой же степени орудие и креатура деспотизма, как и самый последний земледелец. Каждый иезуит есть полный раб своего ордена и существует только ради коллективной силы и значения своих членов»[33].
Я думаю, что в картине нарисованной Дж. С. Миллем мы легко угадаем и ситуацию на постсоветском пространстве конца двадцатого начала двадцать первого века. Для России, Украины и других государств бывшего СССР характерно стремление в бюрократическую систему. Быть государственным чиновником престижно и выгодно, предприниматели опускают руки из-за невозможности развиваться в условиях жесточайшей бюрократии и коррупции, а интеллигенция либо уходит в глухую оппозицию (аналог буддийских монастырей) либо пополняет ряды чиновников. Результатом этого становится регресс общественных отношений, уход от демократии, превращение государственного управления в деспотическую систему.
Государство видится Миллю оплотом бюрократии от которой больше вреда, чем пользы, но тем не менее он считает, что каждый гражданин в виду того, что он пользуется покровительством общества должен иметь персональные обязанности перед ним и выполнять оговоренные правила поведения, при этом Милль отвергает идею общественного договора.
И всё же в своей конструкции справедливости Милль не смог избежать избирательности. Он утверждает, что свободу, как принцип построения общества нужно заслужить. Хотя он замечает, что все народы, которых может касаться его исследование, достигли нужного уровня развития, но: «Деспотизм может быть оправдан, когда идет дело о народах варварских и когда при этом его действия имеют целью прогресс и на самом деле приводят к прогрессу». Какие народы можно называть варварскими, Милль конечно не дает определения, но такие народы, по его мнению, существовали и возможно существуют до сих пор.
Таким образом, он оставляет маленькую щель, сквозь которую можно проникнуть и оправдать насилие над индивидуальностью. Баланс свободы личности и её ответственности перед обществом очень сложный и неоднозначный вопрос. Он особенно обостряется в современном нам обществе на фоне деклараций о всеобщей свободе. Нужно признать, что существуют исторические примеры, когда избыточно высокий уровень свободы вредил социуму. Например, в Польше в 1652 году начал действовать закон liberumveto (свободного вето). Согласно этому закону любой депутат сейма мог одним-единственным голосом «против» «похоронить» любое решение. Сегодня «принцип консенсуса» достаточно успешно применяется в ряде стран и международных организаций, то есть решение принимается только в том случае, если никто не голосует «против». Свобода не ограничивается никаким другим мнением, но это работает, только при очень высоком уровне сознания людей. В Польше XVII века это привело к разброду и шатаниям колоссальной силы, которые в конце концов закончилось её разделом в веке XVIII.
Джон Стюарт Милль существенно обновил конструкцию справедливости Нового времени, особенно это выразилось в его отношении к государству и бюрократии. Он не разделял веру своего отца видного экономиста Джеймса Милля в сильное правительство большинства. Большинство может также терроризировать меньшинство, как и аристократическое меньшинство терроризирует большинство бедных. Но самым важным возражением отцу было его неверие в саморегуляцию свободных рыночных отношений. Милль-младший не считал законы рынка естественными. Под влиянием работ последователей утопического социализма либерализм Милля приобретает черты социального, то есть направленного на достижение социального равенства. У него даже появляются сомнения в правильности капиталистических отношений, но эти сомнения так и остались сомнениями и не переросли в убеждения.
§7 Утопический социализм
Дж.С. Милль не стал социалистом, как Фурье, Сен-Симон и Роберт Оуэн, но в памяти людей он остался, как активный борец за права угнетенных групп. Он боролся за отмену рабства в Северной Америке, выступал против дискриминации женщин, за предоставление им избирательного права и предоставления равных имущественных прав с мужчинами. «Раса, пол и социальное происхождение не имеют никакого значения в том смысле, что все индивиды обладают неотчуждаемыми правами независимо от биологических и социальных обстоятельств». Тем самым его конструкция справедливости уже по многим элементам напоминает концепции постиндустриального общества. Именно концепции во множественном числе, потому что пришло время рассмотреть примеры конструкций коммунистической (иногда её называли социалистической) справедливости, которая по ряду элементов радикально отличается от справедливости либеральной. С некоторой натяжкой коммунистическую и либеральную концепции справедливости можно интерпретировать, как конструкции левого и правого направления в политике, но вряд ли такое определение будет более точным.
Тем более, что истоки коммунистической или социалистической идеологии мы можем обнаружить еще в Древности, Платон со своим рабовладельческим «коммунизмом», раннее христианство с уравнительной идеологией тому подтверждение, ну а Томас Мор своим произведением «Утопия» просто дал название философии Сен-Симона, Фурье и Оуэна, именно эти три мыслителя стали столпами движения утопического социализма. Окончательно оно сформировалась и обрело более менее стройный вид в XIX веке. Всё дело видимо в том, что лишь тогда особенно остро стал вопрос противопоставления частной и общественной собственности. Идея частного предпринимательства и поощрения индивидуализма резко диссонировала с весьма популярной с древних времен идеей общинности, совместного труда и собственности, которая не принадлежит никому, но все нею пользуются. Эти идеи оправдывались традициями, опытом жизни в прошлом. В них народ видел защиту, уверенность в завтрашнем дне. Одному бросаться в море жизни было страшно.
Разграничение между ветвями конструкций справедливости началось еще в XVIII веке, когда одновременно получили широкое распространение две идеи, которые по своей сущности не могли совмещаться: идея всеобщего равенства и идея свободы предпринимательства. Процесс противопоставления этих идей особенно стал заметен во времена Великой французской революции. Среди её лидеров было единство цели в достижении свободы, освобождении от монархии, но единого понимания равенства и набора свобод не было.
Один из её ярких участников – Франсуа Бабёф, в знак своей революционности принявший имя Гракх, в честь знаменитых римлян братьев Гракх. Он поставил себе целью построить «общество совершенного равенства», в котором не будет частной собственности, но несогласных с его позицией было слишком много. За попытку организации восстания с целью захвата власти он был казнен, но после себя оставил идеи, которые имели в дальнейшем поддержку и развитие. Считается, что они легли в основу научного коммунизма. Основной идеей «из Бабёфа», использованной в дальнейшем последователями конструкции коммунистической справедливости, была идея периода диктатуры при переходе к коммунизму, «обществу совершенного равенства». Бабёф утверждал, что невозможно сразу перескочить одним шагом из первого состояния во второе, необходим переходной период, в течение которого единственно возможным способом управления есть диктатура. Он был сторонником насильственных методов перехода к социализму, но по-видимому ужасные, кровавые сцены той самой революции настроили других последователей теории социального равенства более миролюбиво.
Эти деятели были строителями альтернативной конструкции справедливости Нового времени. Идеальное общество они называли по-разному: Фурье – гармонией, Оуэн – коммунизмом, Сен-Симон – индустриализмом, но в их концепциях были общие элементы, поэтому их теории обычно рассматривают совместно. Каждый имел своих последователей с весьма широким спектром воззрений на справедливость, поэтому говорить о единой теории утопического социализма не приходиться скорее это группа близких по направленности идей, но эти идеи оставили свой след в истории. Они стали канвой для построения конструкции коммунистической справедливости.
Утопический социализм XIX века интересен еще и тем, что он имел не только свои теоретические основы, как у Мора и Кампанеллы, но и практику. Она была важным фактором распространения идей, хотя все опыты закончились неудачно. Фалансеры последователей Фурье и коммуны Оуэна не смогли просуществовать долго, сказывалась неэффективность общественного труда, неопределенность мотивов, несовершенство распределения, все начинания закончились провалом.
Социалисты проповедовали особое отношение к труду, как источнику всех благ, при этом труд обязательно должен быть свободным от эксплуатации. Согласно их убеждениям также не может существовать противоположности между трудом умственным и физическим. Основная идея состояла в том, что труд должен быть во благо общества, а не во имя эгоистических желаний отдельных индивидуумов. По мнению адептов социалистических теорий, это должно было обеспечивать его свободу и высокую эффективность.
Ключом перехода к свободному высокопроизводительному труду должно стать создание крупного общественного производства на основе передовых технологий. Отмена частной собственности, а также замена эгоистической конкуренции братской кооперацией дадут стимул к труду такой эффективности, которая в будущем обеспечит изобилие.
Утопический социализм XIX века уже не проповедовал полную уравниловку и аскетический образ жизни, как это делали его предшественники Мор и Кампанелла, наоборот целью движения должно стать общество, где удовлетворяются все потребности людей материальные и моральные. Этим он отличался от утопий средневековья.
В коммунистических общинах распределение должно было осуществляться «по способностям», способности должны подтверждаться делами. В остальном – все равны, нет никаких привилегий, в том числе «стартовых» таких например, как привилегии по рождению. Вся жизнь делится на производственную и непроизводственную. Государство сводится лишь к управлению процессом производства, но не общества в целом.
Большое место в практике утопического социализма отводилась религии, в очень разных проявлениях, от нового христианства Сен-Симона до рациональной социалистической религии Оуэна. Объяснения появления стимулов к труду на благо общества часто скатывались к мистике. Последователи Сен-Симона превратили социалистическое движение в религиозную догматическую секту с проповедями и другими атрибутами церкви, например провинциальные общины прямо назывались церквами, а члены общины братьями и сестрами.
Большинство адептов утопического социализма придерживались ненасильственных методов достижения проповедуемых ценностей. Фурье, Оуэн считали, что цели можно достичь примером и просвещением масс. Хотя среди представителей утопического социализма были и радикальные элементы, например, бабувисты – последователи идей Бабёфа, которые считали необходимым скорейшее проведение революционного переворота и введение революционной диктатуры. Выходцем из похожего политического течения был Вильгельм Вейтлинг. Для нас он интересен тем, что в своих работах вплотную занимался темой справедливости. Даже организация приверженцев коммунизма, в которую входил Вейтлинг, называлась «Союз справедливых».
Социалистические идеи стали распространяться в XVIII- XIX веках потому, что расширился круг лиц, которые хотели и имели возможность рассуждать о судьбах человечества. Образование стало более доступным, оно перестало быть прерогативой аристократов и священников. Выходцы из бедных слоев населения могли рассчитывать на заметную в обществе активную политическую и публицистическую деятельность. Бабёф родился в семье бывшего солдата, а Вейтлинг был подмастерьем, учеником портного, тем не менее, каждый из них достиг заметногополитического положения, что было крайне маловероятно раньше. Увеличивается численность наемных рабочих, для которых заработная плата – единственный источник существования. Это наиболее бесправная часть общества, одновременно она и наиболее подвижная и внушаемая, появляется термин рабочее движение.
Произведения Вильгельма Вейтлинга считаются пиком в развитии теории утопического коммунизма, их очень высоко ценили и даже считали Вейтлинга своим учителем К. Маркс и Ф. Энгельс, хотя они имели и свои принципиальные возражения по ряду изложенных ним идей. Конструкция справедливости Вейтлинга весьма показательна, она конструктивно технична, прагматична, но религиозна также, как у его предшественников социалистов Сен-Симона и Фурье. Вейтлинг в своих работах упоминает Христа и употребляет слово «мессия» в применении к будущему вождю. «Новый мессия придет для того, чтобы претворить в жизнь учение первого. Он разрушит насквозь прогнившее здание старого общественного строя, слезы направит в море забвения и землю превратит в рай»[13].
Вейтлинг пытается всё «расставить по полочкам», точно регламентировать процессы и даже объяснить отдельные конкретные ситуации, которые могут возникнуть в его «идеальном обществе». При этом главное, по его мнению, что обеспечит справедливость – гармония между страстями и способностями людей, на фоне попыток детализации, весьма неопределенная категория, которую трудно описать и уловить. Для обретения гармонии, по мнению Вейтлинга, необходимо найти баланс между тремя направлениями стремлений человека: к приобретению, наслаждению и знанию. Причем главным должно быть стремление к знанию, чем больше будет знаний у людей, тем лучше они смогут рационализировать стремления к приобретению и наслаждениям. Поэтому обществом должны управлять не конкретные личности со своими страстями, а собственно наука по найденным ею естественным законам. Ни монархия, ни аристократия, ни демократическая республика не подходят для такого процесса, они все управляются не наукой, а страстями отдельных личностей и не могут достичь нужного уровня организации. «Сделать это правильно можно только отделив личные интересы от науки и продукты деятельности науки от личности так, чтобы управлением общества руководила наука в истинном смысле этого слова, а не личности», – пишет Вейтлинг[13].
Достичь такого справедливого управления обществом сразу невозможно, так как капитализм не подготовил для этого необходимый базис. Общество еще не производит нужного количества продуктов, которые обеспечили бы принципы настоящего равенства, поэтому нужен «переходной период», как у Бабёфа. Во время этого периода необходима диктатура, так как только она способна«как можно скорее обуздать извращенные страсти единиц», а руководству диктатурой потребуется «ввести большую экономию», чтобы обеспечить хотя бы минимальные потребности масс»[13].
С «единицами», имеющими извращенные страсти, необходимо поступать сурово, чтобы не затягивать переходной период. «Это не значит устраивать врагам кровавую баню или лишать их свободы, но это значит отнять у них все средства, которыми они могли бы вредить нам[13]», – пишет Вейтлинг в своей работе «Гарантии гармонии и свободы».
На лицо избирательная справедливость, во всяком случае, в переходный период. «Отнять все» у человека, который обладает извращенными страстями по Вейтлингу – есть справедливость. Речь, о каких либо законах при этом не идет, кто должен определять, насколько извращены страсти каждой конкретной личности, по каким принципам, просто не обсуждается. Справедливость отъема признается априори. «При помощи таких мер все остальное пойдет само собой. Во время переходного периода все с радостью принесут требующиеся от них жертвы, если правительственный персонал первый подаст хороший пример»[13]. «Всё пойдет само собой», чего в этом больше наивности или неумения подробно описать, как это должно происходить?
Вейтлинг пытается создать жесткую конструкцию, но логических связей ему явно не хватает. К тому же его отношение к законам, если не отрицательное, то очень настороженное. По его словам в будущем обществе законов не будет вообще потому, что не будет преступлений, а в существующем обществе «законы, составляемые для всех немногими, во многих случаях являются препятствием к свободе всех»[13]. Он даже не подозревает, что законы создаются не только для наказания преступников.
То есть в отличие от конструкции либеральной справедливости, где законы являются фактором гарантирующим свободу и конструктивно увязывают элементы «должного», в конструкции коммунистической справедливости Вейтлинга законы эту функцию не выполняют и вообще становятся ненужными. Не обсуждается даже возможность изменения законов с целью соответствия их какому-то понятию справедливости, они просто должны исчезнуть. «Правильно организованное общество не знает ни преступлений, ни законов, ни наказаний», – считает Вейтлинг[13].
Основной причиной социального неравенства, а следовательно основной причиной несправедливости объявлена денежная система. Не столько система свободного дикого рынка, а именно деньги, в них корень зла, считает Вейтлинг, из-за них происходит несправедливое распределение. «Все кроется в денежной системе, в ней и только в ней корень зла и источник его питания, и нигде больше он так глубоко не запрятан»[13]. По Вейтлингу – в справедливом обществе денег нет, распределение будет основано на сложной системе учета труда каждого индивидуума. Для получения «необходимого» любой гражданин должен отработать определенное количество часов. Чтобы получить кроме «необходимого», еще и «приятное» этот же человек должен отработать дополнительно столько «коммерческих» часов, сколько стоит это «приятное» согласно особому прейскуранту. Таким образом, с точки зрения Вейтлинга, будет соблюдена справедливость, кто больше работает, тому больше достается «приятного», а необходимое все получают поровну, при условии, что они работают.
Подробно описывается система учета отработанных часов «коммерческих» и нормативных, которая в результате должна привести, по всей видимости, к неравномерному распределению, так как способности и желания у каждого разные. Это подтверждает Вейтлинг, он пишет: «Поэтому равномерное распределение труда и потребления по числу, мере и весу противоречит как законам естественного равенства, так и гармонии всех, когда оно может нарушить свободу отдельного индивида как и гармонию всех. Равномерное распределение, следовательно, может быть применено только там, где подобной угрозы нет» [13]. Где и при каких условиях распределения гармония не будет нарушаться, он не уточняет, хотя в других разделах указывает на необходимость и справедливость полного уравнивания вне зависимости от выполненной работы: « … самая значительная должность в обществе не должна оплачиваться выше, чем самая низшая, а последняя — не ниже самой важной». [13]
Система учета труда достаточно громоздкая и опирается на развитую бюрократическую систему, хотя Вейтлинг и говорит, что она не больше, чем при капиталистическом распределении. В его «идеальном обществе» у каждого работника должно быть много начальников. Нужно ведь кому-то отмечать отработанные человеком часы «необходимые и коммерческие», полученные приятности, ставить визы для возможности путешествовать, принимать много других определяющих решений. Без отметок в своей коммерческой книжке гражданин не имеет права менять место жительства, место получения пищи, одежды, медицинского обслуживания. Он их просто нигде не получит, пока некий начальник не сделает соответствующую отметку.«Виза же дается только тогда, когда книжка в полном порядке и в нее внесены суммы отработанных часов и полученных удовольствий, что также принимается во внимание при составлении годового отчета»[13], – подчеркивает Вейтлинг.
Фактически от начальника зависит вся жизнь любого гражданина. Но теоретически опасаться не стоит, потому что все начальники будут очень хорошими, самыми умными, самыми честными, потому что их будут выбирать по принципу учености, причем бессрочно. Точнее работать начальниками они будут до тех пор, пока их ученость будет удовлетворять общество. Процедура определения, удовлетворяет ли данный начальник этому критерию или нет,Вейтлингом не описана.
Принятая в современном ему обществе избирательная система Вейтлинга не удовлетворяет. «Кому еще не опротивело так называемое народовластие, являющееся результатом существующих избирательных систем…»? [13] В его версии выборы руководящего состава должны происходить по принципу конкурсного замещения, очень похоже на замещение должностей в академиях и университетах. Верховная власть, которая Вейтлингу представляется в виде «Трио или Совет трех мужей» должна состоять из «крупнейших философов, которые в то же время являются лучшими талантами в медицине, физике и механике» [13]. В определении Трио недаром подчеркнуто трех мужей, женщины, по мнению автора, не могут состоять в этом совете, так как им не превзойти мужчин «в полезных науках, открытиях и талантах»[13]. В этом прослеживается избирательность конструкции справедливости Вейтлинга, но это не предел. Дети, по его мнению, должны воспитываться с раннего возраста в специальных государственных школах изолированно от родителей. «Детей, достигших трех- или шестилетнего возраста, государство берет в Школьную армию»[13]. Дети должны не только обучаться различным наукам, но и приносить «материальную пользу обществу», то есть работать на производстве, причем приучать их должны «главным образом к самым неприятным работам» [13]. Феномен детства, свобода для ребенка в выборе направления обучения, у Вейтлинга не рассматриваются.
В описанных выше конструкциях утопических социалистов-коммунистов много различий, но есть одна общая черта. Они утверждали – для справедливости недостаточно иметь набор личных свобод, в том числе свободу конкуренции,недостаточно иметь законодательно равные права и возможности для утверждения своей позиции в жизни. Только реальное социальное равенство может сделать общество справедливым.
Они считали несправедливостью, как неравные стартовые возможности обусловленные происхождением, образованием, начальным капиталом и т.д., так и имущественное неравенство, сформированное в результате свободной конкуренции. Однако в своих теориях они не были до конца последовательны и логичны. Ними предлагалось распределение «по способностям» или по трудовому вкладу, что однозначно должно привести к материальному, а вслед этому и к социальному неравенству, так как способности людей очень различаются, не говоря уже о сложности определения ценности способностей отдельной личности. То есть, если следовать по предложенному ними пути, снова вернешься в общество, где не может быть социального равенства.
Общество изобилия, которое рисовалось где-то за горизонтом, гипотетически давало решение этого вопроса, но методы достижения его были иллюзорными, не решался вопрос обеспечения социального равенства в переходной период, фактически на это время предлагался культ насилия.
Утописты занимались не только разработкой социальных теорий, например, Роберт Оуэн активно продвигал идею особого фабричного законодательства, которое позволило бы более справедливо регулировать отношения между работодателем и наемным рабочим. Он даже участвовал в попытке создания первого профессионального союза, для защиты прав людей работающих по найму. С его именем связано начало борьбы с безработицей, как социальным явлением. Право на жизнь рассматривалось ним, как право иметь достойную работу. Эта деятельность сыграла положительную роль в развитии концепции справедливости, во-первых, была описана сама проблема, во-вторых, права наемных рабочих обретали очерченность, часть из них уже в XIX веке была отражена в законах.
Многие положения конструкции справедливости утопистов сегодняшнему человеку видятся наивными, но они не казались таковыми адептам зарождающегося социализма даже, несмотря на неудачи в практическом осуществлении идей. Они видели, что в окружающей их жизни слишком много несправедливого и искали альтернативные пути выхода из этой ситуации.
§ 8 Алексис де Токвиль, опасности демократии.
Кроме коммунистов-социалистов справедливость искали, но в несколько ином направлении и либералы. Алексис де Токвиль сын, внук и правнук аристократов и монархистов считал, что будущее мира все же будет за демократией. Его родная Франция проходила уже периоды и демократии, и монархии, но так и не достигла удовлетворительной государственной организации. Если не образцом, то ориентиром демократического устройства де Токвиль считал США, однако он понимал, что и в этом передовом для своего времени государстве много неправильного и несправедливого.
В 1831 году де Токвиль посетил Соединенные штаты. После годичного путешествия по стране он написал своё самое значительное произведение «Демократия в Америке», его считают классическим изложением идей либеральной демократии, первое издание книги увидело свет в 1835 году.
В ней он не просто описывает свои впечатления от увиденного за океаном, он задается вопросом: «Какой должна быть демократия, каким должно быть реальное наполнение этого термина – воля народа, народовластие, власть большинства»? В своей работе он с сожалением замечает: «Воля народа есть, пожалуй, один из тех лозунгов, которым интриганы и деспоты всех времен и народов наиболее злоупотребляли»[49]. На смену монархиям и аристократиям приходят демократии, но так ли хорошо это, отвечают ли существующие демократические государства критериям настоящей эффективности и справедливости, какие сложности возникают при обретении демократических свобод? Эти вопросы очень занимают де Токвиля.
В своем исследовании Америки он хочет найти черты «правильной» демократии и отсеять то, что не может, по его мнению, соответствовать её целям и то, что в будущем принесет негативные последствия. Права и свободы это только инструмент справедливости, пользоваться ними – искусство и далеко не каждый гражданин способен на это. Например, де Токвиль считал, что всеобщий доступ к информации, её вольное распространение, свобода слова и печати – прекрасные достижения, но и у них есть и темная сторона. «Несчастны те поколения, которые первыми допустят свободу печати»! – пишет он.
По его версии, всех людей можно разбить на три категории. В первую войдут те, кто будет воспринимать информацию и будет верить в неё, не осознавая почему – так называемая «необдуманная доверчивость». Во вторую категорию войдут лица, которые не будут знать, во что верить, так как в получаемой информации много противоречий, «человек погружается в сомнения, его охватывает недоверие ко всему». И только в третьей – «у человека появляется убеждение как следствие размышлений, доминирующее убеждение, рождающееся из знаний и утверждающееся, даже несмотря на тревоги, связанные с сомнениями…»[49]. Но третьей категории «достигнет, ценой определенных усилий, лишь небольшое количество людей»[49]. Тем самым Токвиль говорит, что свобода слова приносит не только большую пользу, но и немалые проблемы, она сеет в головах смятение и тревоги, дает возможность одной части общества влиять на другую, причем не всегда во благо.
Демократия, как организация, штука сложная и то, что мы видим вокруг себя часто только похоже на демократию, но не отвечает тем высоким требованиям, которые к ней предъявляют люди. «Еще в начале своего пребывания в Америке я сделал поразившее меня открытие: как много достойных людей среди тех, кем управляют, и как мало их среди тех, кто управляет», – пишет де Токвиль. Справедливость не торжествует потому, что «всякого рода шарлатаны хорошо знают секрет, как понравиться народной массе, тогда как истинные друзья чаще всего не имеют у нее успеха»[49]. Избирательная система обеспечивает свободный выбор граждан, но этот выбор на деле оказывается несвободным, потому что «шарлатаны» применяют методы обмана для того, чтобы пробраться на выборные должности, вспомним категорию людей «необдуманной доверчивости». Всеобщее свободное право избирать и свободный доступ к политическим должностям – это очень хорошо, но набор прав и свобод ограниченный только двумя упомянутыми пунктами, не обеспечивает справедливого управления, во власть проходят не самые достойные, а самые хитрые и властолюбивые.
Свободная избирательная система прекрасное достижение, но её результаты чаще всего отражают волю не всех граждан, а большинства, а это, по мнению де Токвиля, может иметь серьёзные отрицательные последствия. Всевластие, в каком бы виде оно не выражалось: в лице одного деспота или в образе массы большинства – это всегда плохо. Всевластие большинства перерастает в тиранию и наносит ущерб, не только меньшинству, но и всему обществу в целом. «Всевластие само по себе дурно и опасно. … И когда я вижу, что кому-либо, будь то народ или монарх, демократия или аристократия, монархия или республика, предоставляется право и возможность делать все, что ему заблагорассудится, я говорю: так зарождается тирания — и стараюсь уехать жить туда, где царствуют иные законы», – пишет де Токвиль[49]. Система противовесов для правящего большинства, которая должна ограничивать его всевластие один из методов решения этой проблемы. «… политические объединения, способные пресекать деспотизм партий или произвол правителя, особенно необходимы в странах с демократическим режимом», – отмечает французский мыслитель[49].
Он пытается проникнуть в суть власти большинства и находит, что в ней есть некая подмена понятий: «Моральная власть большинства отчасти основана на представлении о том, что собрание, состоящее из множества людей, обладает большими знаниями и мудростью, чем один человек, на доверии количеству законодателей, а не их качеству. Это – теория равенства, распространенная на умственные способности человека, учение, которое наносит удар человеческой гордости в ее последнем убежище». [49]
Власть большинства влияет не только на практическую деятельность государства, но и на мысли людей, оно выстраивает приоритеты развития общества в целом, причем часто безжалостно и не всегда мудро. «Когда оно (большинство А.С.) выступает за что-либо, можно сказать, что никакая сила не в состоянии не только остановить его, но и замедлить его движение и дать ему возможность услышать тех, кого оно походя уничтожает. Такое положение вещей может привести в будущем к пагубным и опасным последствиям». [49]
Иногда кажется, что де Токвиль лишь критикует демократию, выискивает в ней только негатив. На самом деле это не так, он не относится отрицательно к демократическому правлению, он осознает – на смену монархиям и аристократиям все равно придет демократия. Настоящая готовность правильно ею пользоваться, осознание всех её недостатков – вот, по мнению де Токвиля, правильный путь формирования организации будущего общества. Не находя справедливости в отдельных странах и народах, он апеллирует к высшей справедливости: «Существует общий закон, созданный или по крайней мере признанный не только большинством того или иного народа, но большинством всего человечества. Таким законом является справедливость. Справедливость ограничивает права каждого народа». [49]
Большинство, в рамках одного народа или страны, считает де Токвиль, имеет такие же позитивные и негативные качества, как и отдельные личности. «Что такое большинство, взятое в целом? Разве оно не похоже на индивидуума, имеющего убеждения и интересы, противоположные убеждениям и интересам другого индивидуума, именуемого меньшинством»? [49] Государство по сути это группа людей избранных представлять интересы большинства, но разве должны отдельные люди быть могущественнее, чем само общество, волю которого они должны проводить в жизнь? «Что мне больше всего не нравится в Америке, так это отнюдь не крайняя степень царящей там свободы, а отсутствие гарантий против произвола», – восклицает Токвиль. [49] Демократия должна не только предоставлять весь набор свобод, но и осуществлять контроль над их использованием, ведь избыточная свобода одного, становится несвободой другого.
Остановить произвол власти и в частности произвол большинства должно разделение властей. «Но ведь может существовать и такой законодательный корпус, который бы представлял большинство, не будучи рабом его страстей, такая исполнительная власть, которая располагала бы своими собственными силами, и, наконец, судебная власть, независимая от двух первых. И тогда правление будет также демократическим, но не будет почти никакой возможности для возникновения произвола». [49] Власть большинства без произвола по отношению к меньшинству – вот истинное предназначение демократии.
Особенно важным де Токвиль считает независимость судебной власти и подсудность всех граждан без исключения вне зависимости от занимаемых должностей и социального положения. В демократии власть принадлежит представителям большинства, поэтому соблюдение законов ними играет особую роль, так как меньшинству сложнее контролировать это. При этом он отмечает проблему смешивания исполнительной и судебной власти. Он описывает современную ему ситуацию, например, Государственный совет Франции не может и не должен выносить судебный вердикт, так как он по своей сути является органом исполнительной власти и подчиняется королю. Он не может быть свободным и беспристрастным в своих решениях. На это не имеет право любое правительство, в любой стране по той же причине, так как оно не является судебным органом.
Законы, обеспечивающие подсудность всех должностных лиц, не только пресекают произвол, но и поднимают уважение народа к этим лицам, так как последние стараются не навлекать на себя критику народа. При этом Токвиль подчеркивает, что не нагнетание насилия в отношении людей власти, а неотвратимость закона обеспечивают справедливость. «Со временем человечество признало тот факт, что, делая правосудие более неотвратимым и одновременно более мягким, его превращают в реально действующую силу». [49]
Суды должны быть не только всеобщими, но и опираться на иерархию законов, во главе которой стоит Конституция. Она является не просто главным законом, но законом, принимаемым не просто представителями большинства, а всем народом по особой процедуре. Судьи же руководствуются законами, которые не должны противоречить Конституции. Эта связь обеспечивает справедливость не потому, что судят по закону, но потому что вердикт суда не противоречит воле народа, выраженной в Конституции.
Суды не должны быть всемогущи, как и любая из ветвей власти, они имеют свою строго регламентируемую сферу. Судья не имеет права вмешиваться ни в один процесс, пока закон не трактует ситуацию, как спорную. Судья ограничен законом в своих действиях, он имеет право судить о споре только в том случае, если в суд обратятся, когда там будет возбуждено дело. Суд судит не об общих положениях, а по конкретному делу и не имеет права выйти за его рамки.
Алексис де Токвиль предупреждает, что при демократическом устройстве деспотизм возможен еще более изощренный, чем при монархии или аристократии. «При абсолютной власти одного человека деспотизм, желая поразить душу, жестоко истязал тело, но душа ускользала от этих мучений и торжествовала над телом. Тирания демократических республик действует совершенно иначе. Ее не интересует тело, она обращается прямо к душе» [49]. «Абсолютные монархии опорочили деспотизм. Будем же осторожны: демократические республики могут его реабилитировать и, сделав его особенно тягостным для немногих, лишить его в глазах большинства унизительных и гнусных свойств». [49]
В демократии человека, который не разделяет мыслей большинства, не лишают жизни или имущества. У него остаются гражданские права, но они станут бесполезными, он оказывается в положении чужака. Он останется среди людей, но лишиться их общения. Он будет добиваться их признания, они сделают вид, что он не заслуживает этого. Он захочет быть избранным своими согражданами, ему откажут в этом. Даже те, кто будет верить в его невиновность, будут избегать его, как «нечистого существа», потому что их в противном случае постигнет его же участь. Что самое отвратительное в деспотизме демократии это то, что большинство не замечает своей тирании над меньшинством, ему кажется естественным такое моральное насилие.
Власть демократии борется уже не за тела, она борется за души и мысли граждан. Свобода слова, которая является завоеванием демократии, может превратиться фикцию, потому что существует общественное мнение. Свобода мысли, с которой не могли справиться ни в одной деспотии, в демократическом государстве может быть взята под контроль. Так происходит, по мнению де Токвиля, в США: «В Америке же дело обстоит иначе: до тех пор пока большинство не имеет единого мнения по какому-либо вопросу, он обсуждается. Но как только оно высказывает окончательное суждение, все замолкают и создается впечатление, что все, и сторонники, и противники, разделяют его». [49] То есть свобода мысли существует только до определенных границ, дальше человек мыслящий иначе, может стать изгоем общества. Большинство располагает не только материальной, но и моральной силой «оно не только пресекает какие-либо действия, но, воздействуя на волю, может лишить желания действовать. Я не знаю ни одной страны, где в целом свобода духа и свобода слова были бы так ограничены, как в Америке», – восклицает де Токвиль. [49]
Большинство формирует общественное мнение, то есть превращает наиболее распространенные мысли в образец, по которому должно формироваться мышление тех, у кого оно отличаются. «Общественное мнение не внушает своих взглядов, оно накладывается на сознание людей, проникая в глубины их души с помощью своего рода мощного давления, оказываемого коллективным разумом на интеллект каждой отдельной личности». «В Соединенных Штатах большинство приняло на себя обязанность обеспечивать индивидуум массой уже готовых мнений, освобождая его от необходимости создавать свои собственные», – считает де Токвиль. [49]
Большинство в США не только насаждает удобную ей мораль, оно даже может противиться закону, если он его не устраивает. В этом также парадокс демократии. Токвиль путешествовал по Америке во времена, когда рабство еще не было отменено во всех штатах, при этом среди населения было достаточно много чернокожих людей, которые формально обладали свободой и гражданскими правами. Однако свободные афроамериканцы не участвовали в выборах, на что обратил внимание де Токвиль, хотя по закону имели такое право. В разговоре с жителем Пенсильвании он пытался выяснить, почему так происходит. «Дело не в том, что они не хотят принимать участие в выборах, просто они опасаются, что им придется плохо, если они попытаются это сделать. У нас иногда, если большинство не поддерживает закон, то он бессилен. Что же касается негров, то против них большинство населения питает самые глубокие предрассудки, и власти не в состоянии гарантировать им права, предоставленные законом». — «Ах вот как! Мало того, что большинство располагает преимущественным правом творить закон, оно хочет еще иметь право нарушать его?» [49] Вот таким причудливым образом проявилась тирания большинства при формально соблюдаемых законах демократии.
Деспотизм в демократических республиках может приобретать самые разнообразные формы, считал де Токвиль: «Джефферсон говорил: «Исполнительная власть в нашем государственном устройстве — это не единственная и даже не главная моя забота. Сейчас и еще в течение многих лет самую большую опасность будет представлять тирания законодателей. Исполнительная власть тоже может стать тиранической, но это случится позже». [49] Защиты требует не только общество в целом от угнетения правительством и законодателями, но и одна его часть от несправедливости со стороны другой.
Одной из главных опасностей демократической республики является централизация. В монархии или аристократии она является гармоничным элементом иерархии власти, но в демократии она превращается в реальный элемент насилия. « … в такой республике деспотизм будет гораздо невыносимее, чем в любой абсолютной монархии Европы», – считает Токвиль. [49] Централизация сводит власть народа к власти отдельных лиц, что неминуемо ведет к злоупотреблениям и в конечном результате к диктатуре.
По мнению де Токвиля подход к демократии, отношение к ней людей в Европе и в Америке отличается. Для американцев, благодаря сложившимся у них свободным нравам, демократическая республика естественна. Для них она – мирное господство большинства, но само большинство не всемогуще. «Над ним возвышаются моральные принципы, такие, как человечность, справедливость, разум, и признанные обществом политические права людей». [49] Для европейцев – «республика — это не господство большинства, как считалось до сих пор, а власть тех, кто берется говорить от его имени. В таких правительствах правит не народ, а люди, знающие, в чем состоит его высшее счастье». [49] То есть в Европе волю народа подменяют волей отдельных личностей, которые присваивают себе права народа, «не спрашивая его мнения», «попирая его ногами» и даже требуя от него признательности.
О США он пишет: «Хотя практическая деятельность республиканского правления не лишена недостатков, она опирается на правильные идеи, с которыми народ в конце концов и сообразует свои решения». [49] О Европе он по-видимому такого сказать не может, ему кажется, что многовековая история монархий и аристократий не дает повода смотреть с оптимизмом на развитие демократических порядков на родном континенте. Во всяком случае, люди знающие в чем состоит счастье народа, категория весьма неопределенная и даже фантастическая. Теперь-то мы знаем, что когда приходит человек и говорит, что он знает в чем состоит народное счастье всё выливается в примитивную диктатуру, ничем не напоминающую демократию.
Справедливость де Токвиля нельзя назвать прокапиталистической, хотя в своей конструкции он отождествляет понятия демократия и капитализм. В тоже время для него меркантильность общества связана именно со свободами предоставленными демократиями, а не с особыми производственными отношениями. С этим же он связывает абсолютную практичность американцев, стремление к лишь полезным действиям и пренебрежение фундаментальными науками и изящными искусствами. Корыстолюбие занимает всё время граждан, им некогда отвлекаться на занятия нерациональные, какими им, по мнению де Токвиля, видятся искусство и наука.
Меркантильность заставляет людей действовать только «полезно», только корыстно, оставляя в стороне любовь к прекрасному. В аристократиях и монархиях искусство и науки развивались благодаря высшим классам, которые не зарабатывали, а наследовали своё богатство и поэтому достаточно легко расставались с деньгами, потраченными на искусство. В демократической республике происходит упадок академической науки и изящных искусств, так как ранее их заказчиками были аристократические верхи. Но де Токвиль считает, что это явление временное. В демократическом обществе, если всем дать равное образование, одинаковую независимость, позволить каждому заботиться о собственном благополучии, то природное неравенство очень скоро даст себя знать и «богатство само перейдет в руки наиболее способных людей». [49] Таким образом, сформируется достаточно большая группа «богатых и вполне обеспеченных людей». «Эти состоятельные люди не будут иметь между собой столь же тесных связей, как это было с членами старой аристократии, поскольку они будут отличаться большим психологическим разнообразием типов и почти никто из них не будет иметь столь же гарантированного и столь же полного досуга; при этом их состав будет бесконечно более многочисленным, чем вообще мог бы быть класс аристократии». [49] Они не будут слишком обременены чисто материальными заботами и это даст им возможность отдать свои силы интеллектуальному труду, искусству. Токвиль надеется на то, что так будет в будущем, а пока лишь констатирует: «Воздух здесь (в США А.С.) пропитан корыстолюбием, и человеческий мозг, беспрестанно отвлекаемый от удовольствий, связанных со свободной игрой воображения и с умственным трудом, не практикуется ни в чем ином, кроме как в погоне за богатством». [49]. Токвиль рисует картину общества, в котором почти не осталось места не только для изящных искусств, но и для фундаментальных наук.
Корыстолюбие ведет к разобщению общества, к усилению неравенства. Демократические республики, к которым человек пришел под лозунгами свободы и равенства, предоставляют каждому равные правовые возможности, но одновременно способствует развитию чувства зависти у человека. «Демократические институты пробуждают страстное желание равенства, потворствуют этому желанию, никогда не имея возможности его полностью удовлетворить», – пишет де Токвиль [49]. Демократия разжигает желание равенства, но на практике не может его обеспечить во всех сферах, от этого у неудовлетворенных людей возникает вражда на почве зависти. Это порождает отчуждение индивидов, их изоляцию от общества.
Разрозненность усугубляется с течением времени, потому что, по мнению Токвиля там, где правит не аристократия, богатство человек получает не по наследству, а приобретает тяжелейшим трудом с большим риском, часто преступая закон. Он обладает ним не «безмятежно», а в постоянном страхе потерять его, снова стать бедным. Это делает его слишком меркантильным, корыстным, черствым. «Безмятежное обладание ценными вещами не привязывает к ним человеческое сердце столь крепко, как это делают не вполне удовлетворенное желание обладать ими и постоянный страх их потерять». [49]
Несмотря на то, что де Токвиль часто применяет слово справедливость, из его работ нельзя получить ясную конструкцию этого феномена. Ему уже понятно, что демократия и либерализм это будущее человечества, но с другой стороны морально он еще не освободился от идей аристократической исключительности. Это не удивительно, кроме того, что все его предки были монархистами, сам он почти всю жизнь прожил в стране с монархическим режимом, только несколько лет «Второй республики» можно отнести к демократии. Именно в этот период де Токвиль в течение некоторого времени успел побыть министром иностранных дел Франции. Он родился в империи Наполеона Бонапарта, которая сменилась реставрацией власти династии Бурбонов, Июльская революция привела к власти короля Луи-Филиппа, затем всего несколько лет республики и снова империя Наполеона III. Теоретик либеральной демократии так и не смог в достаточной мере опробовать свои теории на практике.
Они были ровесниками с Джоном Стюартом Миллем, но так случилось, что свою главную работу «О свободе» Милль опубликовал лишь через двадцать четыре года после «Демократии в Америке» и в тот год, когда де Токвиль ушел из жизни. Они оба либералы, но Милль более прагматичен и конструктивен. Его целью было объяснение, что такое свобода и как нею правильно пользоваться, какими методами можно её сохранить и как обладание ею направить на благо общества. Алексис де Токвиль не был утилитаристом, но по своим суждениям он был буржуазным либералом. Его рассуждения о природном неравенстве и механизме распределения отвечают принципам либерализма. Он уверен, что через свободу и равные стартовые возможности данные всем людям можно обеспечить справедливое распределение благ в соответствии с талантами каждой личности. Однако он не уверен, в отличие от многих мыслителей его времени, что только этими инструментами можно достичь всеобщей справедливости.
Он не создал точного конструктива справедливости, он искал «правильную» демократию и на этом пути проник в такие глубины и сложности представительской демократии, той которой мы пользуемся и сейчас, что подчас не верится, что эти мысли были генерированы в начале XIX века. Он проник даже дальше существующих сегодня конструкций, потому что проблемы морального подавления большинством меньшинства, обеспечение свободы мысли в управляемом информационном пространстве они не решены и до сих пор. Он первым поднял проблему свободы мысли индивидуума и тотального влияния общественного мнения, а также проблему справедливости по отношению к народам, как к обособленным элементам в конструкции всемирной справедливости.
В нем нет абсолютной уверенности в правильности пути, по которому развивается демократия, его прогнозы часто пессимистичны, но его прозорливость удивительна. По сути, он предсказал коммерциализацию искусства и упадок нравов, управление коллективным сознанием и роль отдельных групп в формировании общественного мнения. Его труды невозможно переоценить, они оказали огромное влияние на развитие философии и социологии будущего.
Алексис де Токвиль, Джон Стюарт Милль, Вильгельм Вейтлинг упомянутые выше, свой зрелый период жизни провели в очень интересное, я бы даже сказал судьбоносное для человечества время, это был переходной период. «Вторая половина XIX - начало XX в. - это эпоха утраты ценностного центра в культуре, усиления культурной дифференциации, даже наслаждения центробежными процессами в культуре, потери единого стиля в искусстве, переноса ценностного акцента с общезначимого на индивидуальное»[52].
На самом деле именно в этот период зародилось много разнообразных конструкций справедливости, их спектр невероятно широк от крайней анархии, до жестокого централизма. Большинство из них, возникнув и просуществовав короткое время, ушли в тень или вообще исчезли с мировой сцены. Я уже упоминал, что мы будем рассматривать два основных вида конструкций, которые существовали и собственно существуют до сих пор параллельно. Справедливость либеральная – основанная на свободе личной и экономической, исповедующая равенство политическое, но допускающая неравенство социальное и справедливость коммунистическая – проповедующая полное равенство, в том числе социальное, отвергающая частную собственность и свободный рынок. Эти характеристики краткие и не отражают всех глубин конструкций, к тому же в каждой ветви существуют версии. Даже в марксизме, который многие считают основой конструкции коммунистической справедливости, существовало и существует много разнообразных течений.
§ 9 Карл Маркс и Фридрих Энгельс, фундамент конструкции коммунистической справедливости.
До сих пор мы всего однажды упоминали имя Карла Маркса, хотя он был современником Роберта Оуэна, де Токвиля, Милля и с натяжкой можно сказать даже Гегеля. Конечно, Маркс – человек своего времени, но всё-таки его фигура стоит особняком в этом ряду, а влияние его теорий на мировое сообщество невозможно сравнить ни с какими другими теориями упомянутыми выше. До сегодняшнего дня человечество спорит злой или добрый гений – Карл Маркс, но в одном оно единодушно – он гений. Что интересно, сам Маркс формально не был экономистом, в Боннском и Берлинском университетах он учился на юридическом факультете и изучал соответствующие науки, философию, историю в дальнейшем занимался журналистикой. Формально он был дилетантом, который пришел в экономику через политику и философию
Тем не менее Маркс создал научную теорию, из которой стало ясно, что деньги являются неотъемлемым элементом конструкции справедливости Нового времени. Об этом уже можно было догадываться из концепций Адама Смита, Джереми Бентама, Джона Милля и даже их некоторых предшественников, но так доказательно и системно об этом первым сказал Карл Маркс. Он создал ряд экономических формул, которыми наглядно показал, как зарабатывается прибыль, как прирастает капитал. Его творчество было синтетическим, оно объединяло сразу несколько направлений, причем подход был комплексным, то есть рассматривался непросто отдельный аспект жизни общества, например, экономический, но и его взаимосвязи, влияние на другие стороны деятельности социума, поэтому марксизм это целая система философских, экономических и социально-политических взглядов. Мы здесь не рассматриваем правильность его теорий или их сомнительность. Мы представляем коммунистическую конструкцию справедливости, которую видел Маркс.
Обозначим, что она во многом совпадает с либеральной, обе представляют человеку целый набор свобод, прав и равенств. Обе выступают за наиболее широкий список этих элементов жизни социума, но в каждой из них есть свои ограничения, свой подход к пониманию, как должна обеспечиваться свобода, границы равенства, что должно являться гарантией прав и как далеко они могут распространяться. В сущности обе конструкции являются стремлением к абсолютной справедливости, но разными методами.
Для начала вернемся к истокам капитализма, который своему названию больше всего обязан именно Марксу. «Капитал» – важнейшая работа всей его жизни, интерпретировала социально-экономические взаимоотношения, которые в Европе пришли на смену феодализму, он их назвал капиталистическими, потому что считал, что именно капитал не просто их основа, он главное отличие от экономики феодальной.
Деньги до капитализма исполняли только одну функцию – средство товарообмена. В Новом времени они приобрели ряд других, например, средство инвестирования, то есть деньги применялись не для приобретения предметов потребления, а для получения прибыли. Деньги становились обезличенными, неважно какой естественный продукт будет лежать в основе получения прибыли, неважно каким будет производство, если оно вообще будет, важно лишь то, что деньги после товара снова превратятся в деньги. В процессе инвестирования нет труда в том смысле, в котором это слово применялось при феодализме. Вкладывая деньги в производство или торговую операцию, человек может вообще не принимать в ней участие, но при этом получать прибыль, а вспомним, как Локк и Смит обосновывали легитимность накопления денег, в идеале это воздействие трудом на природные предметы.
Переход к экономическим отношениям, которые имеют целью не произвести продукт, чтобы ним воспользовались люди, а произвести деньги, происходил в сложной не только политической, но и моральной обстановке. Ломаются стереотипы социальных взаимоотношений, многие просто психологически не готовы к этому. Это касалось всех людей вне зависимости от того на какой ступени социальной лестницы они находились. Аристократы не могли перестроиться и не хотели понять, что их состояние теперь нужно рассматривать как капитал, как средство для получения прибыли. Крестьяне, ставшие наемными рабочими, оторвавшиеся от своего, хоть скудного, но собственного хозяйства, теряли жизненные ориентиры. Они не понимали, как жить не имея тех ценностей, которые имели на протяжении многих поколений их предки. Это были ценности, как материального, так и морального порядка.
Капиталистическое производство требовало наемных рабочих, то есть лично независимых людей. Многие в данном случае упускают один очень существенный момент – предприниматель также становится социально независимым от работника, как и работник от него. При феодализме суверен нёс моральную ответственность за подчиненных ему людей. Когда у них возникали проблемы, например, голод или война, они шли именно к нему и просили иногда даже требовали от него защиты и помощи. Он был для них не только работодатель, он – общественный руководитель, судья, источник закона. У них взаимная зависимость, у суверена жизнь не мыслится без его подданных, конкретных постоянных людей, а подданные могут мечтать лишь о смене «хорошего царя на плохого», но не об освобождении от него. Все изменяется при капитализме, все эти функции, кроме работодателя, предприниматель теряет. У него больше нет общественной обязанности заботиться о своих работниках, он свободен.
Капиталист освобождается от этих обязательств, для него все работники люди временные, сегодня одни, завтра другие. Он свободен в их выборе, а они свободны в выборе работодателя. У них нет социальной связи, нет общности интересов. Их совместные интересы не опускаются в границы предприятия, они остаются где-то на уровне города, региона, государства, нации. В рамках капиталистического производства они совершенно чужие друг другу люди.
В конструкции справедливостирезко обозначился элемент – взаимоотношения предпринимателя и наемного рабочего, в котором с одной стороны, есть положительный смысл – всё больше людей становятся лично независимыми, свободны предприниматели, свободны наемные рабочие. С другой стороны эти взаимоотношения приносят дополнительную отчужденность между большими группами общества, что явно имеет негативный смысл, провоцирует дальнейшее разобщение и вражду. Свобода в отдельном секторе общественной жизни, чаще всего означает равенство в этом же секторе. Например, политическая свобода граждан означает равное избирательное право, равные права быть избранным и т.д., но это не означает, что она одновременно обеспечит равенство и в другом секторе. Личная свобода капитализма не приносила имущественного и социального равенства, новые экономические отношения наоборот расслаивали общество, разводили людей по разным уровням социальной лестницы. Кто-то наживал всё больше миллионов и приходил к власти, кто-то скатывался в голодную нищету и фактически терял все права на достойную жизнь, причем всё это происходило, с точки зрения Адама Смита и его последователей, вполне справедливо.
Налицо конфликт теории и практики. Сколько не уговаривай неграмотного, не имеющего ни копейки за душой рабочего, что такая жизнь справедлива – результата не получишь, он с этим не согласится. Утописты это прекрасно понимали, но они не знали, что конкретно предложить взамен. Их слабые попытки организации общин не давали внятного ответа на вопрос: «Что делать»? Карл Маркс совместно с Фридрихом Энгельсом нашли такое предложение, оно было изложено в «Манифесте коммунистической партии». В этой работе они обозначили контуры новой коммунистической справедливости. Во-первых, весь социум они разделили на две категории: буржуазию, которая владеет средствами производства и «платных наемных работников» – всех остальных у которых нет в собственности предметов труда, оборудования, короче всего того, что может приносить прибыль. Во второй список включили не только пролетариат и крестьян, но и ученых, врачей, юристов, поэтов и даже священников. Все они, по мнению Маркса, находились в зависимости от буржуазии, она покупала их труд.
Буржуазия эксплуатирует труд всех остальных – это несправедливо, вот главный тезис и этим определяется стрежневой конфликт в обществе. Основным действующим лицом в этом конфликте является пролетарий. У него нет никаких якорей в той жизни, которую ему уготовила буржуазия. У него нет собственности, у него даже нет «ничего общего с буржуазными семейными отношениями». Он изгой, которого ничто не держит в капиталистическом мире, ему нечего «терять кроме своих цепей». «Законы, мораль, религия – все это для него не более как буржуазные предрассудки, за которыми скрываются буржуазные интересы»[29]. Тем самым, несмотря на то, что выше мы обращали внимание на сходство конструкций, Маркс и Энгельс утверждают, что либеральная конструкция справедливости, существующая в современном им обществе, не имеет ничего общего с той, что предлагают они, потому что законы и мораль это то, что создает «должное» то есть суть справедливости. Значит «должное» марксистское должно радикально отличаться от «должного» либерального. В чем же? «В этом смысле коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности», – отвечают авторы «Манифеста» [29]. Только это может обеспечить всеобщее равенство, в том числе экономическое и социальное.
Маркс искал истоки справедливости в материализме, в производственных отношениях. Он был убежден, что её можно достичь лишь одним путем – установить правильные производственные отношения. Именно отсюда тезис об уничтожении частной собственности потому, что она имеет прямое отношение к капиталу, который в свою очередь есть основа производственных отношений особого типа.
По Марксу: « Капитал – это коллективный продукт и может быть приведен в движение лишь совместной деятельностью многих членов общества, а в конечном счете – только совместной деятельностью всех членов общества». [29] Но этим коллективным продуктом владеет не общество, а отдельные индивидуумы (частная собственность), которые пользуются ним в своих корыстных целях. Несправедливость капитализма базируется на противоречии между общественным характером производства и частной собственностью на средства производства.
При этом, по мнению Маркса и Энгельса, отношения собственности вторичны, они являются лишь отражением производственных отношений и сами по себе не играют заглавной роли, конфликт производительных сил и частной собственности опосредован. «На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или — что является только юридическим выражением последних — с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались»[28]. То есть, по Марксу частная собственность – это следствие соответствующих производственных отношений, изменяя которые можно от неё уйти, тем самым убрать преграду для установления всеобщего равенства. Социальное неравенство – это следствие экономического неравенства, материальное неравенство порождает неравенство социальное. Частная собственность – основа материального неравенства, устранив её, открывается дорога для установления равенства всеобщего.
Источником конструирования новой справедливости должны стать изменяющиеся производительные силы, которые в своем развитии опережают производственные отношения, экономическую структуру общества. Они постоянно развиваются, а за ними следует общественное сознание. «Heсознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание»[28]. В определенный момент уровень отношений перестает соответствовать производительным силам и условиям прогресса, «тогда наступает эпоха социальной революции» [28].
По мнению Маркса в XIX веке как раз такой момент наступил. Капиталистические отношения стали «оковами» прогресса, следовательно, их нужно изменить методом революции. Идеи Бабёфа остались в силе, плавного перехода от капитализма к коммунизму быть не может, но эти идеи серьёзно трансформировались. Для Вейтлинга переходный период должен был быть потому, что капитализм не обеспечил материальной базы для построения коммунизма, он не подготовил такого производства, которое было бы достаточным для того, чтобы сразу перейти к обществу изобилия. Маркс с этим не согласен, производительные силы, которые являются совокупностью средств производства и людей, наделенных необходимыми знаниями и опытом, по его мнению, развиты достаточно и проблема лишь в неправильных взаимоотношениях. Изменив взаимоотношения можно достаточно быстро достичь коммунистической справедливости. Тем не менее переходной период должен быть, так как сначала нужно разрушить капиталистические отношения, а для этого провести целый комплекс мероприятий, только после этого можно будет строить коммунистические отношения, а с ними вместе и новую справедливость.
Необходимо отметить одно существенное различие между либеральной конструкцией справедливости и коммунистической. Первая построена для отражения и если хотите оправдания, существующего положения, она меньше предрасположена к критике, а вторая пытается предвосхитить будущее и не просто критикует, но отрицает настоящее. Какая из этих позиций сложнее, судить трудно, но подходы совершенно разные, поэтому сравнивать их и тем более оценивать непросто, но один аспект невозможно отрицать. В коммунистической конструкции есть элемент, которого нет в либеральной – это переходной период. Для либеральной он и не нужен так, как она отражает уже существующую систему, а для построения коммунистической, по мнению её авторов, требуется подготовка.
В этот период действует особая справедливость и непонятно является она или нет частью коммунистической. Социалисты-утописты не акцентировали на нем внимание, так как их методы перехода к новой конструкции декларировались, как мирные и постепенные. Они пытались создать отдельные ячейки с другой справедливостью, которые по их логике должны были разрастись, распространиться по всему миру. У них не было резкой границы между временем действия новой и старой конструкций справедливости. Они должны были на определенном этапе действовать параллельно, поэтому и не было разрыва между этими границами. Период разрыва между капитализмом и коммунизмом у марксистов был и назвали они его переходным.
Его наличие неизбежно, более того, по мнению Энгельса, он не может быть мирным. В своей работе «Принципы коммунизма» на вопрос можно ли уничтожить частную собственность мирным путем он уклончиво отвечает: «Можно было бы пожелать, чтобы это было так, и коммунисты, конечно, были бы последними, кто стал бы против этого возражать»[54]. Однако уже в следующем 1848 году в «Манифесте коммунистической партии» вместе с Марксом он пишет, что «вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал» можно «лишь при помощи деспотического (выделено мной А.С.) вмешательства в право собственности». Далее в тексте следуют мероприятия, которые необходимо для этого провести, в них применяются термины: экспроприация, конфискация, централизация, обязательность труда для всех. Нетрудно понять, что без насилия невозможно «принудительно лишить собственности», добиться обязательного труда, централизовать кредиты и весь транспорт. «Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя», – пишут Маркс и Энгельс, завершая «Манифест».[29]
Либеральная конструкция справедливости XIX века также полностью насилие не отвергает, но она его ограничивают законами. Насилие морально, если оно соответствует закону, моральность закона и его применения должно обеспечиваться разделением властей, то есть системой сдержек и противовесов, которая предполагает, что хотя бы одна из ветвей должна быть справедливой и тем самым не допустит отклонения от «должного».
У Маркса и Энгельса нет акцентов на разделение властей, власть должна быть едина – власть пролетариата. Марксисты трактуют разделение властей всего лишь, как уловку, как компромисс в борьбе за господство между отдельными группами правящих классов. Маркс называл его не чем иным, как прозаическим деловым разделением труда. Справедливость в версии марксистов должна основываться на том, что в коммунистическом обществе нет конфликта интересов, в обществе нет антагонистичных классов, так как все классы должны раствориться в пролетариате, то есть исчезнуть. Пролетариат в свою очередь, достигнув господства, перестанет ним пользоваться, так как невозможно господствовать над самим собой.
При полном равенстве, свободные люди не будут конфликтовать, тем более совершать преступления. Границами свобод, прав и возможностей будет лишь сознание. Никаких формальностей в виде законов и даже государства при этом не потребуется. Государство не может быть необходимостью для общества, оно всего лишь надстройка над экономической структурой, говорят марксисты. Энгельс утверждал, что государство появилось в результате раскола общества на противоборствующие классы. В коммунистическом обществе классов не будет, поэтому и государство отомрет, именно отомрет само собой, а не будет упразднено. Государство не нужно при коммунизме еще и потому, что оно по определению не может быть справедливым так, как по своей сути является инструментом насилия господствующего класса. Но процесс освобождения от государственной власти не так прост и может быть продолжительным, поэтому нельзя принимать требования анархистов – моментально избавиться от неё.
Вейтлинг и другие коммунистические утописты, в отличие от марксистов, считали, что основой коммунизма будет государство, только изменится его формат, оно из буржуазного превратится в социальное, именно такое государство обеспечит полное равенство.
В переходной период, когда государство еще не отомрет, справедливость будет обеспечиваться какими-то законами, по словам Маркса, сохранится «узкий горизонт буржуазного права». Буржуазное оно потому, что «коммунистического право» это нонсенс, в коммунизме не будет законов, а соответственно и права. Законы переходного периода будут обеспечивать диктатуру пролетариата, то есть единовластие части общества. В работе «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.» Маркс пишет: «Этот социализм есть объявление непрерывной революции, классовая диктатура пролетариата как необходимая переходная ступень к уничтожению классовых различий вообще, к уничтожению всех производственных отношений, на которых покоятся эти различия, к уничтожению всех общественных отношений, соответствующих этим производственным отношениям, к перевороту во всех идеях, вытекающих из этих общественных отношений» [30]. Диктатура в переходной период – необходимость, без нее невозможно провести все мероприятия для разрушения капиталистических отношений.
С её помощью должны быть разрушены как производственные отношения, так и классовые различия. Как известно при диктатуре (имеется в виду вид системы власти) нет никаких законодательных ограничений или системы сдерживания со стороны общественно-политических институтов. Справедливость в переходной период диктатуры пролетариата обеспечивается лишь за счет высокого сознания представителей этого класса. Собственно в это время, с точки зрения коммунистической конструкции, насилие над другими классами, особенно над буржуазией справедливо. Возникает понятие классовой справедливости – то что справедливо для одного класса в тот же момент может быть не справедливо для другого. Это хорошо иллюстрируется на примерах революционных властей Франции 1789 года или России 1917. В судах играла роль принадлежность к какому-нибудь классу: ни за что могли осудить аристократа или дворянина, но в тоже время оправдать рабочего или крестьянина совершившего тяжкое преступление, например, убийство.
Марксисты всячески подчеркивают роль народных масс, для них очень важно, что они представляют большинство. Именно мнение большинства является аргументом справедливости поступков представителей пролетариата. В этом они коренным образом расходятся с де Токвилем и другими адептами либеральной теории, которые говорят о тирании большинства, предостерегают о больших негативных последствиях связанных с нею.
Маркс и Энгельс в своих работах много критикуют несправедливость капитализма, справедливость коммунизма принимается, как очевидный результат развития общества. Основываться она должна на полном обобществлении средств производства, именно это должно стать базисом для справедливости во всех сферах жизни. Общественное производство уничтожит частную собственность, а с нею и материальное неравенство, так как всё станет общественным. Это не значит, что все будут потреблять поровну, потребление будет по потребностям. Высокий уровень сознания должен обеспечить его рациональность.
Бесконфликтное сознание будет базироваться на всеобщем равенстве. Если человеку каждый в обществе социально равен, никто не имеет привилегий, если он может удовлетворить любые свои потребности в рамках рациональности, ему не с кем конфликтовать. Причиной всего этого станет уничтожение классов. В «Манифесте» объясняется, что потуги утопистов устранить конфликты в обществе не находят решения, потому что направлены в ложную цель, они не понимают, что суть именно в уничтожении классового общества. «Их положительные выводы насчет будущего общества, например, уничтожение противоположности между городом и деревней, уничтожение семьи, частной наживы, наемного труда, провозглашение общественной гармонии, превращение государства в простое управление производством, – все эти положения выражают лишь необходимость устранения классовой противоположности,…» [29]
Уничтожение классов решит все вопросы экономические и социальные. Фридрих Энгельс в «Антидюринге» пишет, что буржуазия, как «особый общественный класс», который присваивает средства производства и его продукты « … не только становится излишним, но и является препятствием экономическому, политическому и умственному развитию». [53] Уничтожив буржуазию, снимутся барьеры для всяческих видов развития.
Искоренение классов, обобществление производства приведет к «устранению товарного производства». Продукты труда перестанут быть товаром, у них не будет стоимости, они будут иметь ценность только как предмет потребления. Они не будут средством обмена, оценкой труда, они будут лишь средством удовлетворения человеческих потребностей. В таком обществе деньги просто теряют смысл, так как монеты, купюры, векселя не имеют собственной потребительской ценности разве, что как произведение искусства или исторический артефакт.
Общественное производство будет больше производить, а коммунистическое общество потреблять больше продуктов потому, что исчезнут преграды присущие капиталистическому способу хозяйствования. Потребление не будет ограничено финансовыми возможностями граждан, поэтому не будет кризисов перепроизводства. При капитализме есть потребность в различных продуктах, но их не производят так, как нет людей, которые могли бы это купить. Есть потребность, но нет возможности. Дефицит денег порождает дефицит потребления, он исчезнет вместе с деньгами.
Справедливость общества будет основываться на всеобщем труде. Каждый должен вносить посильный вклад в производство общественного продукта. По версии марксистов при коммунизме должна стереться разница между умственным и физическим трудом. Буржуазии и интеллигенции не будет, поэтому не будет и монополии на умственный труд. Труд станет обязанностью каждого человека.
Маркс и Энгельс менее радикальны, чем Вейтлинг в вопросах детского труда, но они настаивают на трудовом воспитании подрастающего поколения и привлечении его к производительному труду. В тоже время Маркс яростно критикует детский труд при капитализме, неустроенность детей пролетариата, оставленных без надзора, родители которых вынуждены работать по 10-14 часов в сутки.
В классовом обществе «жена и дети – рабы мужчины». По мнению марксистов – это следствие разделения труда и частной собственности. «Рабство в семье – правда, еще очень примитивное и скрытое – есть первая собственность, которая, впрочем, уже и в этой форме вполне соответствует определению современных экономистов, согласно которому собственность есть распоряжение чужой рабочей силой» [53]. Мужчина в капиталистической семье получает право распоряжаться трудом супруги и детей, так как он содержит их.
В марксистской коммунистической конструкции справедливости феномен детства не просто учитывается, речь ведется о гармоническом воспитании молодого поколения. Ребенок должен быть приучен к труду, но его воспитание не должно иметь целью превращение человека в машину для производства продуктов потребления. Энгельс пишет об «интеллектуальном развитии рабочего класса». При этом упор делается на то, что воспитание – прежде всего продукт определенного уровня производительных сил, поэтому при капитализме оно не может быть таким гармоничным, как при коммунизме, считают марксисты.
Они обращают внимание на противоречие, что развитие машинного труда в промышленности требует всесторонне развитых людей, а система капиталистического воспитания, по их мнению, превращает рабочего в придаток машины, не дает возможности развиваться, повышать своё образование.
Ситуация с воспитанием при капитализме такова потому, что оно зависит от наличия денег и в первую очередь направлено на воспитание такого человека, у которого единственной целью в жизни являются те же деньги. Тот, у кого нет денег не может получить хорошего образования, а тот у кого они есть, может его получить, но не может быть гармонично воспитан так, как в основу воспитания положено корыстолюбие. Такой человек не может рационально относиться к потреблению, его влечет вперед постоянная жажда наживы, он не может остановиться.
В прежние до капитализма времена основой воспитания была семья, но по версии Маркса, в новом времени семья уничтожается. «Разложилась внутренняя связь семьи, разложились отдельные части, которые входят в понятие семьи, например повиновение, пиетет, супружеская верность и т.д.; но реальное тело семьи, имущественное отношение, отношение, исключающее другие семьи, вынужденное сожительство – отношения, данные уже фактом существования детей, устройством современных городов, образованием капитала и т.д., – все это сохранилось, хотя и с многочисленными нарушениями, потому что существование семьи неизбежно обусловлено ее связью со способом производства, существующим независимо от воли буржуазного общества»[32]. Связь семьи с экономическими отношениями повлияла на фактическое разрушение семьи в пролетарской среде, считают марксисты, там нет собственности, которая еще объединяет семьи буржуазные, а все остальные консолидирующие факторы атрофировались из-за изнуряющей бедности и отсутствия свободного времени, всё время рабочего занято только работой и сном.
Такое положение несправедливо, ведь человек не может посвятить себя тому, к чему его готовила природа – воспитанию потомков, не просто продолжению рода, но прогрессу вида homosapience. Семья, брак должны быть свободными, а это возможно лишь в коммунистическом обществе. «Полная свобода при заключении браков может, таким образом, стать общим достоянием только после того, как уничтожение капиталистического производства и созданных им отношений собственности устранит все побочные, экономические соображения, оказывающие теперь еще столь громадное влияние на выбор супруга. Тогда уже не останется больше никакого другого мотива, кроме взаимной склонности». [55] Свобода брака сводится не только к свободному волеизъявлению при его заключении, но и при разводе. При капитализме это часто невозможно так, как женщина полностью экономически зависит от мужчины. Справедливость отношений в браке торжествует именно в коммунистической концепции, уничтожение частной собственности освобождает супругов от взаимной зависимости. « … длительность чувства индивидуальной половой любви весьма различна у разных индивидов, в особенности у мужчин, и раз оно совершенно иссякло или вытеснено новой страстной любовью, то развод становится благодеянием как для обеих сторон, так и для общества» [55], – пишет Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства».
Семья должна перестать быть единицей экономики, домашнее хозяйство, как и все производство должны стать общественными. Индивидуальное домашнее хозяйство, которое ведут женщины при капитализме, это те оковы, которые забирают у них свободу. «…первой предпосылкой освобождения женщины является возвращение всего женского пола к общественному производству, что, в свою очередь, требует, чтобы индивидуальная семья перестала быть хозяйственной единицей общества. [55]
По версии Маркса и Энгельса всё должно быть общественным: домашнее хозяйство, воспитание детей, средства производства. Это не значит, что всё станет общим – ложки, вилки и даже жены, общественное не тождественно общему. Это значит, что должна измениться организация, как воспитания, так и обеспечения быта людей, она должна стать коллективной.
Существенная разница в конструкциях справедливости либеральной и коммунистической – это отношение к индивидуальности. Либеральная на этом основывается: на неприкосновенности, на приоритете защиты именно личности, а не коллектива в целом состоящего из этих личностей. Коммунистическая справедливость имеет коллективный характер, она строится макроструктурами – народные массы, общественные отношения. Свобода личности не отрицается, она состоит в списке свобод представляемых конструкцией, но при распределении в иерархии свобод выше ставится свобода коллектива, а не индивидуума. Он может и должен выражать своё мнение и он должен быть услышан, его мнение должно быть учтено, но оно не подлежит защите, если не совпадает с мнением большинства.
Об этом не говорится напрямую, но подразумевается, что его сознание будет настолько высоким, что индивидуум воспримет и согласится с мнением народа потому, что оно apriori не может быть неправильным, марксистский народ всегда прав. Что-то в этом напоминает древнегреческую демократию – личность свободна, когда она находится в массе, но незащищена, когда находится вне её. Личность не является главной ценностью, этой ценностью является коллектив, в нем вся правда и справедливость.
Роль личности в истории это отдельная тема марксизма. Маркс не отрицал, что выдающиеся личности играют определенную роль в развитии общества, но только в рамках объективных законов, которые в свою очередь основываются на общественных производственных отношениях. Это не свободная воля личности, а историческая необходимость, которая диктует вектор действия каждому индивидууму вне зависимости от его величия. Постановка вопроса у марксистов о роли личности состоит не в том, играют ли гениальные личности свою роль в истории, а в том в каких условиях это происходит. Позволяют ли они выдающейся личности реализовать свой потенциал. В этом контексте рассматривается вопрос о роли необходимого и случайного. На великую личность нужен исторический спрос, тогда она появляется и решает проблемы стоящие перед обществом. Случайность заключается в том, когда появится такая личность, каким способом она будет решать проблемы, но в любом случае она будет действовать в рамках необходимого, иначе она не станет великой. Любая личность не идеализируется, отношение к ней сугубо материалистическое. Этот тезис хорошо стыкуется с отношением марксистов к Богу.
Характерной чертой их конструкции справедливости есть отсутствие религиозной составляющей, марксизм её не только не применяет, он её активно отвергает. Марксизм – это теория атеистическая. Его материализм показывает религию, как своеобразную форму отражения бытия и объясняет её возникновение и существование материальными условиями жизни. Акцент ставится на том, что «религия – это бессознательное самосознание человека», эта идея марксистами была почерпнута у Людвига Фейербаха. Коммунизм же, прежде всего высокое рациональное сознание, отвергающее бессознательное отношение к окружающему миру. «Когда бессознательность исчезает, тогда вместе с нею пропадает вера в это начало, а в то же время и возможность существования религии», – пишет марксист Плеханов. [42]
До марксистов атеисты причиной религии называли невежество масс, а освобождение от неё, по их мнению, лежит через просвещение. Маркс и Энгельс убеждены, что причины возникновения религии заложены в самой организации человеческого общества. Она необходимый продукт такого строя, где человек находится в состоянии рабской зависимости, поэтому в коммунизме религии просто не может быть так, как каждый человек будет абсолютно свободным.
Коммунистические движения второй половины XIX века были весьма разнообразны, причем часто в названиях у них отсутствовала ссылка на коммунизм, это анархисты, народники, социал-демократы, социалисты-революционеры и многие другие. Среди них были сторонники и противники марксизма, но общим для них было то, что их не устраивал основной принцип либеральной концепции – справедливость социального и экономического равенства.
Энгельс в предисловии к немецкому изданию «Манифеста коммунистической партии» 1890 года объясняет, почему тогда в 1848 году они назвали его коммунистическим, а не социалистическим. Они не хотели, чтобы их путали с утопистами, а широкие слои населения именно их тогда называли социалистами. «А та часть рабочего класса, которая убедилась в недостаточности чисто политических переворотов и провозглашала необходимость коренного переустройства общества, называла себя тогда коммунистической. Это был грубоватый, плохо отёсанный, чисто инстинктивный вид коммунизма; однако он нащупывал самое основное и оказался в среде рабочего класса достаточно сильным для того, чтобы создать утопический коммунизм: во Франции — коммунизм Кабе, в Германии — коммунизм Вейтлинга». Но построение социалистического общества, как общества социальной справедливости, свободы и всеобщего равенства соответствует идеям марксизма и их конструкции справедливости.
Слова Энгельса также показывают, как нужна осторожность в классификации различных течений социалистов и коммунистов. Частенько очень похожие по названию партии или союзы на деле оказывались весьма разными по идеям и методам деятельности. Далеко не все социалисты поддерживали коммунистическую конструкцию справедливости, из некоторых течений, например, социал-демократов получились чистые либералы.
§ 10 Анархизм, справедливость Бакунина и Кропоткина
Первыми из всего разнообразия адептов социальной справедливости появившихся в конце XVIII начале XIX века мы рассмотрим анархистов, о которых уже упоминалось выше. Они также стремились к всеобщему равенству, также говорили об уничтожении государства, стремились к абсолютной свободе. По их версии свобода должна быть обеспечена искоренением всех видов принуждения и эксплуатации человека, в том числе и государства. Власть и конкуренцию они хотели заменить добровольным сотрудничеством индивидуумов.
Первым теоретиком современного анархизма был англичанин Уильям Годвин, хотя идеи анархизма известны с древности. В 1793 году вышла его книга «Исследование о политической справедливости», в которой он изложил свое видение проблемы. Основными были два тезиса: необходимо упразднить государство и частную собственность. Его идеи получили поддержку и распространение. Из людей, стоявших у истоков анархизма, невозможно не упомянуть Пьера Жозефа Прудона, человека, который первым назвал себя анархистом.
Характерной особенностью этого движения есть широчайшая палитра мнений, целей и методов их достижения. Они занимают крайние фланги политического бомонда и слева, и справа. Часть из них, например, анархо-индивидуалистов условно можно отнести к либеральному направлению, так как они не отрицают частную собственность. Современные либертарианцы радетели за абсолютную свободу рыночных отношений, это также движение рожденное в анархизме, часть из них так и называют анархо-капиталистами.
Деятелей левого толка можно объединить под общим названием социальные анархисты. У большинства из них целью, так же как и у марксистов, было построение общества подобного коммунизму, поэтому в практической деятельности пути этих политических движений часто пересекались, именно о них мы и поговорим сейчас.
Я недаром написал «общества подобного коммунизму». Представление о коммунизме, как и о конструкции его справедливости у анархистов существенно отличалось от представления марксистов. Они соглашались с ними в том, что власть отобрать у буржуазии нужно силой, что государство необходимо уничтожить, но ни о каком переходном периоде речи не велось, государство не отмирало постепенно, а сразу декретно упразднялось.
Многие превратно понимают лозунг абсолютной свободы анархизма. На самом деле они не отрицают организацию общества вообще, они отвергают лишь её насильственные формы. Один из классиков анархизма Михаил Бакунин видел будущее в федерации свободных общин, созданных по типу коммун. Важнейшим принципом при этом он считал рост организации «снизу вверх». Никакого диктата сверху, полная свобода низовых формирований.
Одновременно с такими взглядами он не отрицал юридическое право и законы особенно, если они исходили снизу, каждая община, по его мнению, вольна создавать собственные законы. В его представлениях об идеальном обществе присутствуют судебные органы, но все это должно существовать в обстановке абсолютной свободы. Бакунин в своем «Революционном катехизисе» подчеркивал: «Человек действительно свободен только среди равным образом свободных людей, и так как он свободен лишь в своем качестве человека, то рабство хотя бы одного-единственного человека на земле является как нарушение самого принципа человечности, отрицанием свободы всех»[4]. Это очень важное замечание как иллюстрация того, что в работах анархистских теоретиков достаточно много неоднозначности и логических нестыковок. В данном случае, заявление Бакунина можно рассматривать так – настоящая свобода это состояние будущего, так как искоренить сразу всё рабство на земле крайне сложно или невозможно, а до него свобода может быть не полной или не до конца правильной. Возможно, юридическое право и законы должны существовать лишь в период «неправильной» свободы? Как действовать во время «неправильной» свободы, как достичь идеала? У Бакунина на этот вопрос ответ один – бороться. Свергнуть государство, объявить всех свободными, а дальше в работу вступит глубинный механизм самосознания свободных людей, который расставит всё по своим местам. Очень напоминает утопистов, которые тоже говорили, что всё произойдет «само собой».
Сама конструкция справедливости анархистов очень проста, её кратко выразил в своем «Катехизисе» Михаил Бакунин: «Свобода индивида может быть осуществлена лишь в равенстве всех. Осуществление свободы в равенстве есть справедливость» [4]. Общество равных – вот то, что обязательно должно быть в коммунизме.
Нельзя не вспомнить великого ученого, географа и историка, теоретика анархизма Петра Алексеевича Кропоткина. Именно в его работах наиболее ясно описываются идеалы и философия анархизма, четко вырисовывается конструкция справедливости анархического коммунизма. Это и не удивительно, имея огромный опыт работы в естественных науках, он не мог излагать свои мысли без логической структуры, четко обозначенных взаимосвязей. Кропоткин, кстати, отрицал метод диалектики в построении философии будущего общества, он считал верным метод индукции, который широко применяется в науках природного характера.
Как продолжатель идей анархизма он так же, как и Бакунин идеализировал общинные отношения. Он считал, что в прошлом, когда не было государства и люди жили общинами, на планете был правильный порядок. Тогда люди «соединялись прямо» без посредничества государства и церкви, теперь нам следует вернуться к этому. Сегодня, если государство разрушить, то «новая жизнь возникнет в тысячах центров, на почве энергетической личной и групповой инициативы, на почве вольного соглашения» [24] . Кропоткин считает, что дух свободы и сотрудничества у человека был, но он забыт, ему нужно только «проснуться».
Государство мешает пробуждению, оно было исторической необходимостью в прошлом, но теперь « … государство – это отрицание свободы и равенства; потому что оно только портит все, за что принимается, даже тогда, когда хочет провести в жизнь то, что должно служить на пользу всем» [25].
Он категорически не согласен с марксистами по вопросу роли государства при социализме. Он называет это коллективизмом и считает, что его применение приведет к возврату деспотизма, что в действительности и произошло в СССР. Кропоткин отрицает диктатуру пролетариата, он не верит, что даже лучшие его представители смогут избежать соблазнов власти. Старая политическая форма, коей является государственная власть, которой народ не верит, она не приблизит коммунизм, а уничтожит уже завоеванное. «Человек из народа не рассуждает отвлеченностями, а прямо фактами повседневной жизни. Он чувствует поэтому, что то государство, о котором болтают в книгах, явится для него в форме несметных чиновников, взятых из числа его бывших товарищей по работе, а что это будут за люди - он слишком хорошо знает по опыту» [23].
Марксистское социалистическое государство, как коллективная организация общества также является формой эксплуатации, одна лишь разница, в капитализме эксплуататор – частное лицо, а здесь – коллективное государство. Анархический коммунизм может быть только негосударственным. По мнению Кропоткина, средства производства после революции должны быть переданы «из рук личного капитала в группы производителей» [25], но ни в коем случае нельзя их передавать в руки государства, это поставит крест на её завоеваниях. Поэтому социализм в том виде, который представляют марксисты – с диктатурой пролетариата, социалистическим государством, Кропоткиным не принимается. В нем люди остаются наемными работниками. «Если же рабочий останется рабочим наемным, то он останется рабом того, кому вынужден будет продавать свою рабочую силу - все равно, будет то частное лицо или государство» [23]. Не изменяется главный принцип, принцип зависимости от работодателя, что говорит лишь об отсутствии свободы, тогда возникает вопрос, зачем делать такую революцию? «… при таком понимании задач социальной революции анархизм не может чувствовать симпатии к программе, которая ставит себе цель «завоевание власти в современном государстве» [25].
У Кропоткина двоякое отношение к насилию. С одной стороны он убежденный революционер. «Мы знаем, что мирным путем это завоевание невозможно. Буржуазия не уступит своей власти без борьбы. Она не позволит свалить себя без сопротивления», – [25] пишет он в своей работе «Современная наука и анархия». Но одновременно с этим подчеркивает: «Вопрос не в том, как избежать революции – ее не избегнуть, – а в том, как достичь наибольших результатов при наименьших размерах гражданской войны, то есть с наименьшим числом жертв и по возможности не увеличивая взаимной ненависти»[25]. Для него даже великая цель не оправдывает средства и тем более жертвы. Справедливости невозможно достигнуть, поправ все принципы человечности. Государство, которое вмешивается в дела отдельных личностей или общин, пытается навязать мир, «причиняет гораздо больше вреда, чем пользы, потому что таким образом противоположные вещи насильно связываются, ради установления однообразного порядка; отдельные личности и мелкие организмы приносятся в жертву одному «огромному, поглощающему их телу – бесцветному и безжизненному» [24].
Людям между собой напрямую проще договориться, чем через посредника, который постоянно преследует не их интересы, а свои собственные. Кропоткин не согласен с капиталистическими идеологами, которые утверждают, что человек человеку волк. Он не согласен со Спенсером и Гексли, которые под маркой «борьбы за существование» утверждали, что порядок в обществе устанавливает внутривидовое соперничество homosapience. Оно существует, но его роль не так велика, как о нем говорили дарвинисты. Кропоткин подчеркивает, что сам Дарвин развивал идею, где социальный инстинкт особей «более силен и более постоянен и активен, чем инстинкт самосохранения» [25].
Кропоткин поддерживает русского зоолога Кесслера, который считал: «Для прогрессивного развития вида закон взаимной помощи имеет гораздо большее значение, чем закон взаимной борьбы»[25]. Не конкуренция, а взаимопомощь вот путь к процветанию, путь к справедливости. «Взаимная помощь действительно есть не только самое могучее орудие для каждого животного вида в его борьбе за существование против враждебных сил природы и других враждующих видов, но она есть также главное орудие прогрессивного развития» [25].
Один из главных акцентов в конструкции справедливости анархистов это абсолютная свобода личности. Именно это обстоятельство является причиной полного неприятия государства, как системы. По мнению Кропоткина, смысл существования государства заключается в подавлении личности, в уничтожении свободного творчества, любого личного почина при торжестве одной идеи, которая подавляет все остальные. Анархическое общество строится по другому принципу – общество ничего не навязывает отдельной личности под угрозой наказания или возмездия, оно ничего не требует от личности такого, на что та не соглашается добровольно.
При этом Кропоткин не смешивает свободу личности и индивидуализм. По его мнению, анархический индивидуализм, проповедуемый Штирнером, не может привести к справедливому обществу, потому что в этом случае не может быть полного равенства, «нельзя освобождаться, желая господствовать над другими»[25]. Такие анархисты ставят себя выше народа, что по духу их уравнивает с привилегированным меньшинством: духовенством, буржуа и чиновниками. Анархизм не должен быть делом отдельной личности, это общественное движение. Он должен обеспечивать её свободу, но не за счет свободы других.
Кропоткин вместе с государством отрицает и законы, как таковые. По его мнению, отношения в обществе должны определяться не законами, не властителями, а свободными взаимными соглашениями. Тем более что законы всё равно в своей основе лишь «кристаллизуют в постоянную форму» обычаи, которые уже существовали раньше, они не являются великим откровением – это то, что уже существовало в мире до их появления. Поэтому анархисты отказываются от роли законодателей, законами невозможно произвести социальную революцию.
Кропоткин считает их мнения схожи с Марксом в том, что существующий уровень производства достаточен для организации общества изобилия. Он может обеспечить производство достаточного количества любого требуемого продукта, беда лишь в том, что общество неверно организовано. Высокий уровень производительных сил уже не требует анархического индивидуализма, а лишь умной организации коммунистического труда. В работе «Современная наука и анархия» Кропоткин пишет: «…не подлежит никакому сомнению, что очень высокая степень достатка для всех могла бы быть достигнута легко и в короткое время при помощи умно организованного коммунистического труда; причем от каждого отдельного лица потребовалось бы не более 4 - 5 часов работы в день; а это дало бы возможность иметь по крайней мере пять совершенно свободных часов в день после удовлетворения всех главных потребностей: жилья, пищи и одежды» [25]. Самое главное, чтобы коллектив представлял собой группу заинтересованных в своей деятельности людей, которые понимали бы, зачем и для кого они все это делают. Требуется именно понимание важности, необходимости труда, справедливости дальнейшего потребления произведенных свободным трудом продуктов. В этом случае, с точки зрения Кропоткина, будет обеспечен высокий уровень производительности труда.
§11 Реалии и иллюзии коммунистической конструкции справедливости к началу XX века.
Далее мы снова вернемся к развитию либеральной конструкции справедливости, но сейчас будет не лишним подвести промежуточные итоги развития коммунистической справедливости такой, какой она виделась в веке XIX и в самом начале XX, до 1917 года. Наиболее важным её элементом есть социальное равенство. Адепты коммунистических движений иногда подменяли его словами всеобщее, что по сути одно и то же, так как в него обязательно входили социальное и экономическое равенство.
Не менее важным элементом конструкции коммунистической справедливости есть упразднение или отмирание государства, а с ним вместе и юридической системы управления обществом. Законы заменяются высоким сознанием граждан, именно оно должно создавать ограничивающий эффект для возможных конфликтов, правда по утверждению марксистов конфликтов в коммунистическом обществе быть недолжно, так как нет противоборствующих групп, нет антагонистических классов. Общество строится не на соперничестве и конкуренции, а, как писал Кропоткин, на взаимной помощи, на так называемом «социальном инстинкте», который компенсирует отсутствие внутривидовой борьбы.
Теоретически вроде бы уже можно было бы говорить о достижении предела вектора справедливости. Свобода абсолютная, равенство всеобщее, возможности неограниченные, права максимальные. Однако внимательное рассмотрение деталей коммунистической концепции справедливости наводит на мысль, что даже в теории о пределе говорить рано. У марксистов свобода личности ограничена влиянием коллектива, предусматривается её вторичность по отношению к нему. Тирания большинства просматривается невооруженным глазом, личность подчинена ему. Равенство и права обещаны только в будущем обществе изобилия. В переходном периоде, действуют совершенно иные моральные нормы, такие как классовая справедливость. Поощряется насилие в отношении лиц несогласных с линией марксистов. У них это выражено в виде диктатуры, то есть системы власти из прошлого, даже если это диктатура не одного лица, а диктатура пролетариата, диктатура большинства. Права меньшинства никак не защищены, более того это меньшинство должно быть насильственно ассимилировано с большинством. У этих людей фактически нет прав и вообще нет выбора.
Как это не покажется странным широкой общественности, в теории наиболее близки к пределу вектора справедливости анархисты. Они также хотят забрать власть у буржуазии насильственным революционным путем, но после этого насилия, декларируется действительно всеобщее равенство, абсолютная свобода, равенство возможностей и права ограниченные лишь правами других личностей. Мы сейчас не обсуждаем реальность подобного положения, но исходя из логики развития вектора справедливости, прослеженной нами со времен первобытных, в конструкции анархического коммунизма можно найти признаки предела развития справедливости. В дальнейшем мы поговорим о возможности такого достижения, но пока отметим, что декларативно это первыми сделали анархисты.
§ 12 Томас Хилл Грин, социальный либерализм
Говоря о широкой палитре движений коммунистической направленности, неправильно было бы считать, что в либеральной среде всё было однообразно и неинтересно. Там также бушевали страсти, приверженцы либеральной справедливости делились на группы, движения, направления. Нельзя оставить без внимания конструкцию справедливости, которая оставаясь либеральной, настойчиво отстаивала некоторые принципы присущие коммунистической справедливости, я говорю о социальном либерализме. Он возник в последней четверти XIX века под влиянием утилитаризма. Исповедуя приоритет частной собственности и рыночные отношения, представители этого направления считали социальное неравенство несправедливым.
Английский философ Томас Грин, не отрицая свободу личности, считал, что каждый человек имеет обязанности перед обществом на том основании, что он постоянно пользуется его благами. Человек в одиночку никогда не смог бы сделать того, что он получает в кооперации с другими людьми, у него были бы совершенно другие возможности реализации своего потенциала.
Каждый из нас регулярно пользуется плодами деятельности других людей в виде науки, культуры, различных изобретений, средств производства продуктов потребления и многого другого, которое невозможно было бы создать, если бы люди не сосуществовали в социуме. Мы все в большой мере являемся продуктами его влияния, поэтому было бы очень логично справедливо распределять то, что ним производится.
Грин считал, что будет правильным, если дикий свободный рынок будет это учитывать и общество создаст механизм, который компенсирует его «дикость». Он не отрицал капиталистический способ хозяйствования, но считал, что государство должно выступить регулятором социальной справедливости. Оно должно употребить свою власть для того, чтобы каждый гражданин имел возможность удовлетворить свои основные нужды, например, получить достойное образование, избежать экономического давления со стороны крупного капитала, не ощущать никакого гнета социального неравенства.
Таким образом, можно было бы построить социальное государство, которое своей структурой могло бы обеспечить, как минимум равные возможности, то есть установить такой порядок, где человек вне зависимости от того с какой ступени социальной лестницы он начинает свой путь имел бы возможность достичь самого высокого её уровня. Социальные либералы хотели не только дать возможность сильным достичь высот, но и защитить относительно слабых. В конструкции либеральной справедливости впервые возник такой элемент, как социальная защита. У Грина это было еще на уровне идеи, но его последователи в XX веке разовьют её.
Цели социального либерализма были близки к целям марксистов, всё-таки и те и другие желали построить общество, где бы соблюдалось социальное равенство. Однако принципиально и методически они расходились по разные стороны баррикад. Марксисты отрицали частную собственность и свободный рынок, точнее рынок как таковой, социал-либералы поддерживали и то и другое, но вводили контролирующий фактор – государство, благодаря чему они и хотели получить эффект социальной справедливости. Идеей являлось моральное равенство индивидов, их равноценность, что должно быть реализовано не только в теории, но и на практике. В таком виде либерализм выступает, как направление гуманистическое и социально ответственное. Этот вид либерализма имел развитие и практическое воплощение. Скандинавская социал-демократия наилучший пример этого, несмотря на то, что все эти страны, за исключением Финляндии, конституционные монархии. Политические и экономические системы скандинавских стран направлены на сглаживание социального неравенства. Насколько удачно это у них получается, мы оценивать не будем, существует много критики и много восторженных отзывов. Важно, что в этом регионе сложилась своя особая концепция справедливости.
§ 13 Фридрих Ницше, справедливость в несправедливости.
Среди мыслителей девятнадцатого века были и такие, которых невозможно определить в любую из двух основных конструкций справедливости, но и невозможно не заметить. Ярким примером может послужить философия Фридриха Ницше.
Говорить о его конструкции справедливости очень трудно так, как он считал, что основание на Земле «царства справедливости и единодушия» крайне нежелательно. По его мнению, в этом случае общество превратится в «царство глубочайшей посредственности». Исходя из его рассуждений «должное», которое является основой справедливости, как это не звучит парадоксально, следует обозначить, как отсутствие справедливости.
Действительно, все ценности, к которым последовательно шло человечество с Осевого времени Ницше отвергает. Отвергается равенство, на престол воздвигается «сверхчеловек». В своей книге «Так говорил Заратустра» Ницше пишет: «Я не хочу, чтобы меня смешивали или ставили наравне с этими проповедниками равенства. Ибо так говорит ко мне справедливость: «люди не равны» [39]. Справедливость – в неравенстве слабых и сильных, так как люди рождены разными. Справедливыми могут быть лишь избранные люди – «сверхчеловеки», лишь немногие достаточно сильны, чтобы быть справедливыми.
Провозглашается аристократическое кастовое общество, в котором даже право должно быть отдельным: право сильных (господ) и право слабых (рабов), то есть правового равенства не должно быть. Как вы понимаете, рабство также считается вполне легитимным положением. «Свободное общество», по мнению Ницше, фикция и бред. Его нет и его не может быть в принципе.
Либерализм, с его лозунгами свободного общества и равноправия, всего лишь попытка придать равенству форму права, а его философия способствует превращению человечества в стадо. Социализм, по мнению Ницше, вообще не решает вопросы справедливости, а решает вопросы власти и главный вопрос – это определить величину своей силы. Определив её, социалистические лидеры получат возможность понять, какое из направлений их движения может быть реализовано, а какое нет.
В основе всей этой теории положена особая человеческая сущность, которую Ницше определяет в своей книге «Так говорил Заратустра»: «Что такое этот человек? Клубок диких змей, которые редко вместе бывают спокойны, – и вот они расползаются и ищут добычи в мире»[39]. В человеческом обществе господствует «воля к власти», которая между людьми проявляется как «война всех со всеми». Такое отношение к человеку вызвано нигилизмом Ницше, отрицанием осмысленности человеческого существования, во всяком случае, большинства людей, массы или как он говорил «стада». У массы не должно быть даже права на жизнь. По мнению Ницше, любовь к человеку диктует – слабые и неудачники должны погибнуть.
Вместо «права на жизнь», которое искусственно создали христианские деятели, может существовать лишь «право жить». В это понятие он включает «право на зачатие», «право быть рожденным», «право на смерть свободную, сознательную, без случая, без неожиданности». Если человек недостоин жить, то у него есть право совершить суицид, уйти из жизни, чтобы не мешать достойным её продолжать. Само понятие естественной смерти Ницше отрицает, по его мнению, она как раз и есть смерть неестественная.
Основным правом есть право силы. Он считал неверным, что в современном мире сила, насилие ассоциируются с негативными последствиями, а слабость наоборот воспринимается, как добро. Такое «искажение» Ницше связывал с христианской религией. Насилие, по его мнению, естественное условие эволюции, без него невозможен отбор сильных и отсеивание слабых. Ницше испытал сильное влияние дарвинизма. Весь ход эволюции, естественный отбор, борьбу за выживание видов он трактовал, как проявление «воли к власти». Больные и слабые должны погибнуть, а сильнейшие выжить. Право слабого заключается в возможности погибнуть или стать сильным, то есть возродиться. Ницше верит в жизнь, как в преодоление рокового. «Падающего подтолкни!» в его интерпретации означает – дай возможность испытать силу слабому. Вот поэтому «То, что не убивает нас, делает нас сильнее».
Признание прав другого человека возможно лишь в двух случаях. Во-первых, когда силы равны и тогда вступают в дело «соображения страха и осторожности» и во-вторых, когда силы неравны, но у сильного имеется избыточно много прав и он готов одарить какой-то их частью слабого.
Конечно, Ницше считает, что не может существовать и равенства между женщиной и мужчиной в виду разнице в их силах. Вообще, по его мнению, принцип должен быть таким: равенство для равных, неравенство для неравных. Свобода имеет смысл только для сильных, слабые должны покориться или уйти из жизни.
Я сжато попытался изложить видение понятия справедливости Фридриха Ницше. Конечно, это мое собственное изложение, потому что сам он никогда системно не излагал его и возможны разночтения. Ницше вообще говорил: «Я не доверяю всем систематикам и сторонюсь их. Воля к системе есть недостаток честности» [40]. Однако однозначно можно сказать, что его конструкция, если она существовала, никак не вписывалась в ту особенность прогресса, тот вектор справедливости, который мы пытаемся обозначить.
Широко известно, что философия Ницше легла в основу идеологии нацизма о ней мы вспомним вовремя описания конструкций справедливости XX века, предварительно можно сказать, что связывать нацизм и прогресс общества однозначно не стоит. Но к философии Ницше нужно относиться осторожно и вдумчиво. Существует много людей, которые утверждают, что настоящие идеи Ницше никак не соответствовали будущим идеям нацизма. Ставить знак равенства между ними неправильно. В идеях Ницше, несмотря на критику и осуждение человека, на самом деле отражается боль за него, за его неправедность и внутреннюю злость. В них не только явный негатив, но еще больше желания позитива, желания помочь человеку стать лучше.
§14 Владимир Соловьев, природа морали и права.
Кроме теории Ницше существовали и другие концепции справедливости, которые не укладываются ни в либеральную конструкцию, ни в коммунистическую. Необходимо вспомнить таких философов, как Владимир Сергеевич Соловьев и Николай Александрович Бердяев. Оба были религиозными мыслителями, хотя мы говорили, что в конструкциях справедливости, уже начиная с конца Средневековья, элемент религии становится все менее значимым, а у большинства теоретиков «божественная справедливость» из работ вовсе исчезает. В восточной Европе особенно в Польше и России были очень сильны позиции религии, католичества и православия, как источника справедливости. Несмотря на религиозную основу своей концепции Соловьев, разработал очень интересные теоретические основы морали, которые применимы в любом, в том числе и нерелигиозном обществе.
Он детально изучает природу морали и права. По его мнению, мораль всегда идеалистична, она несет в себе нравственные требования, которые способствуют построению некого идеала. Этот идеал есть предмет стремления людей, они его сами создают и к нему стремятся, хотя духовная роль религии в этом процессе Соловьевым подчеркивается особо. В то же время право – явление сугубо прагматичное и для него неважно нравственное начало или идеал, для права основой есть поступок и его результат.
Мораль это то из чего состоит внутренний мир человека, его собственные рефлексии, чувство стыда, на основе которого формируется совесть. Право – это область рассмотрения внешних проявлений воли человека, его фактические действия и их результаты.
Соловьев в отличие от коммунистов не отрицает государство и законы, но и не особенно приближается к либералам. Он, как и они считает, что государство нужно для того, чтобы охранять интересы граждан. В тоже время, по его мнению, настоящее христианское государство не просто охраняет интересы людей, оно стремится улучшить условиях их существования и проявляет заботу об экономически слабых и немощных гражданах. Тем самым он выстраивает определенную конструкцию социально ориентированного государства. У него нет всеобщего равенства, но есть христианское сострадание к слабому, отверженному.
По его мнению, государство при помощи своего аппарата и законов должно регулировать отношения личностей, так чтобы как можно больше людей действовали в интересах общего блага. Соловьёв говорит, что закон — это «ограничение личной свободы требованиями общего блага». При этом он отдает себе отчет, что таким образом нельзя сделать «Царство Божие на земле», целью такой конструкции всего лишь избежать противоположного – «не превратить жизнь людей в Ад». Государство не может сделать так, чтобы все люди поступали исключительно по принципам высокой морали, оно всего лишь может принудить человека не стать преступником или наказать его за уже совершенный поступок.
В своих рассуждениях о государстве Соловьев опирается на христианские каноны. Христос сказал: «Я пришел не разрушить закон, а исполнить» [50]. «И поскольку христианство не упразднило закона, оно не могло упразднить и государства»[50]. Но у Соловьева христианское государство имеет определенные черты отличные от, например, языческого государства. Оно выступает как «собирательно-организованная жалость» общества и поэтому оно представляется, как образование естественное и необходимое. «Политическая организация есть благо природно-человеческое, столь же необходимое для нашей жизни, как и наш физический организм»[50].
Кроме стыда и его воплощения – совести, Соловьев основой нравственности считает жалость и благоговение, но именно стыд, по его мнению, является основным показателем человечности. «Этот нравственный факт резче всего отличает человека ото всех других животных, у которых мы не находим ни малейшего намека на что-нибудь подобное»[50], – пишет он в своей работе «Оправдание добра».
Соловьев не принимает во внимание, что во второй половине XIX века уже были известны исследования антропологов таких племен, у которых чувство стыда с точки зрения цивилизованного жителя Европы практически отсутствует. Но Соловьев игнорирует это, утверждая, что его отсутствие у некоторых микросоциумов не может служить доказательством несущественности различия, дело всего лишь в том, что у них это чувство или еще на развилось или уже утеряно. Доказательством, с его точки зрения, могло бы служить только наличие примеров хотя бы зачатков стыда у животных, а таковых, конечно, нет.
Соловьев подчеркивает идеалистическую основу стыда, так как по его мнению, это чувство не имеет оправдания с точки зрения утилитарно-материалистической. « … с утилитарной точки зрения, там, где стыд мог бы быть полезен, его нет, а там, где он есть, он вовсе не нужен» [50]. Стыд является не результатом инстинкта самосохранения, «охраняется не материальное благополучие субъекта», а его «высшее человеческое достоинство».
Сущностью стыда является отрицательное отношение человека к его природному животному естеству. Самым ярким проявлением этой сущности есть аскетизм, нежелание уподобляться животному. Соловьев говорит именно об аскетизме, а не о рациональности. Эгоистической материальной рациональности либералов противопоставляется духовное самосохранение за счет пресечения желаний, отказа от плотских влечений, которые Соловьев называет «противоразумными, бессмысленными». Однако нужно уточнить, что у него речь не идет о физиологически необходимых действиях, а о «борьбе духа с плотью», душевных состояниях сластолюбия, опьянения, сладострастия.
Наряду со стыдом Соловьев указывает, что очень важное место занимает чувство жалости. «Оно состоит вообще в том, что данный субъект соответственным образом ощущает чужое страдание или потребность, т.е. отзывается на них более или менее болезненно, проявляя, таким образом, в большей или меньшей степени свою солидарность с другими» [50]. В отличие от стыда оно присуще не только человеку, но и животным, хотя и в зачаточной стадии. Соловьев считает, что жалость является «индивидуально-психологической сущностью нравственной связи» между людьми. Именно жалость позволяет различать добро и зло, человек безжалостный не может быть добрым. Однако Соловьев критикует Шопенгауэра и подчеркивает, что жалость и сострадание не могут олицетворять сущность всего добра и нравственности. Добрый человек, искренне испытующий жалость, может быть пьяницей или развратником, то есть не быть абсолютным моральным образцом.
Из чувства жалости Соловьев выводит два принципа: принцип альтруизма и принцип эгоизма. Первый – производный от жалости, а второй от безжалостности. При этом он подчеркивает, что в чистом виде они встречаются крайне редко. Даже законченный эгоист иногда чувствует к кому-либо жалость, но безжалостность даже в узкой сфере деятельности, наносит ущерб несравнимый с тем малым чувством жалости, которое иногда к такому человеку приходит. Это суждение резко отличает философию Соловьева и философию либерализма. Эгоизм в конструкции либеральной справедливости элемент необходимый, без него она просто разрушается.
Выводя жалость, как одно из основных чувств, ведущих к справедливости, Соловьев применяет его не только к отдельным личностям, но и к целым народам. Ему одинаково не нравятся оба подхода к теме национальности, ни националистический, ни космополитический. Он говорит, что настоящий патриотизм никогда не может основываться на национальном эгоизме, нечестных методах достижения возвышения своего народа против другого: «Это есть прежде всего обида для той самой народности, которой мы хотим служить»[50]. Но отсутствие народных черт также плохо, как и безличность. «Прежде чем осуществлять в себе идеал всечеловечества, нации должны были сами сложиться и определиться в своей самостоятельности»[50]. Но народность это не нечто живущее в себе и для себя, она является всего лишь «особой формой всемирного содержания», которая живет в нем, наполняется им и воплощает его не только для себя, но и для всех.
Жалость, как основа справедливости должна порицать насилие, отношение к нему у Соловьева соответствующее, особенно это касается уголовных наказаний. «Нет и тени разумного основания утверждать, что предел смягчения уже достигнут и что виселица и гильотина, пожизненная каторга и одиночное заключение должны пребывать навеки в уголовном законодательстве образованных стран»[50]. По его мнению, жестокость наказаний с развитием общества должна только лишь смягчаться. Он задумывается над целесообразностью наказаний, как таковых, есть ли в них смысл вообще?Соловьев развивает теорию наказания, утверждает, что принцип возмездия в данном случае не может быть применен. Если один человек отнял жизнь у другого, то это было следствием его злой воли. Разрушить её может лишь его покаяние, но не смерть. Его смерть будет лишь отрицанием его жизни, но не его злой воли. Казнив его, мы не сможем разрушить отрицательное, которое привело к смерти человека, мы разрушим лишь положительное – жизнь человека, как бы зла не была его воля, он продолжает оставаться человеком. Доктрина возмездия безнравственна и внутренне бессмысленна, она не создает положительного, она лишь усугубляет отрицательное.
Третьим основным чувством Соловьев считает благоговение и преклонение перед высшим. Он уверен, что оно, как и жалость присуще не только человеку, но и животным. Благоговение порождает другое чувство. «Чувство религиозной преданности есть в высшей степени сложное, так как оно состоит из любви, из полного подчинения чему-то высшему и таинственному, из сильного чувства зависимости, страха, почтения, благодарности за прошедшие и упования на будущие блага и, может быть, еще из других элементов» [50].
Триумвират чувств: стыда, жалости и благоговения формируют этическую базу существования человека, они формируют «должное», понятия о добре и зле. Все остальные проявления нравственной жизни всего лишь видоизменения трех основных чувств, считает Соловьев. Очень важна комплексность трех этических начал. Стыд и его производная аскетизм без жалости могут натворить немало бед, как это было, например, со святой инквизицией, которой трудно отказать в аскетизме и благоговении. Эти чувства: жалость, стыд, благоговение должны взаимно дополнять друг друга, тогда они могут создать моральную основу справедливости.
Переходя из областей относительно простых в области сложных общественных отношений, стыд превращается в совесть. «Стыд и совесть говорят разным языком и по разным поводам, но смысл того, что они говорят, один и тот же: это не добро, это недолжно, это недостойно. Такой смысл уже заключается в стыде; совесть прибавляет аналитическое пояснение: сделавши это недозволенное или недолжное, ты виновен во зле, грехе, в преступлении»[50]. Соловьев подчеркивает, что самоосуждение и совесть нетождественны. Досада за неподходящий результат сделанного зла – не совесть, а скорее наоборот бессовестность.
Как видно из вышесказанного подход Соловьева в формировании конструкции справедливости существенно отличается от современных ему мыслителей либеральных и коммунистических. У него нет акцента на свободу и равенство, он не демократ, а типичный государственник. Для него «государь христианский – вершина милости и правды» [50]. Свобода понимается Соловьевым, не как нечто данное природой, а как то, что человек должен заслужить своим подвигом. В обществе должна существовать безусловная свобода, но она «не может принадлежать толпе, не может быть атрибутом демократии» [50]. «Всякому, конечно, желательна нравственная свобода, как всякому, может быть, также желательны верховный авторитет и власть, но желания тут мало»[50], – считает философ. Авторитет и власть дается лишь милостью Божией, а свободу нужно заслужить.
Неравенство вполне допускается в его конструкции справедливости и оно, с точки зрения мыслителя, может быть отрицательным и положительным. Чувства стыда и жалости, а также производные от них совесть и альтруизм, по мнению Соловьева, не являются проводниками равенства. «Общее правило альтруизма: поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобою, - вовсе не предполагает материального или качественного равенства всех субъектов. Такого равенства не существует в природе, и требовать его было бы бессмысленно. Дело идет не о равенстве, а лишь о равном праве на существование и развитие своих положительных сил»[50]. Его мысли сходны с мыслями либералов, которые утверждают необходимость установления режима равных возможностей, но в вопросах равенства экономического и социального он однозначен, его существовать не может. Это неравенство может только лишь в какой-то степени компенсироваться заботой христианского государства об экономически слабых людях. В этом он радикально расходится с коммунистами.
У Соловьева неравенство не носит однозначно отрицательный характер, оно может быть и положительным. Отрицательное неравенство это, например, неравенство белых плантаторов и рабов негров или помещиков и крепостных крестьян. В тоже время неравенство отношений между детьми и родителями носит, по его мнению, характер положительный. Он считает их неравными, но это неравенство основывается на любви, жалости, альтруизме. У детей перед родителями возникает чувство добровольного преклонения.
Положительное неравенство проявляется и в том, что человек признает над собой высшую силу. Он не может быть равен божеству, у него возникает чувство благоговения перед ним. «… всякое такое существо, стремясь к своей жизненной цели, необходимо убеждается, что ее достижение, или окончательное удовлетворение воли, не находится во власти человеческой, т.е. всякое разумное существо приходит к признанию своей зависимости от чего-то невидимого и неведомого»[50].
Признание любого неравенства категорически противоречит воззрениям коммунистов и в большой степени либералов, особенно либералов XX века. Для Соловьева оправданием неравенства в первую очередь есть вера в зависимость перед Богом. Сам факт признания легитимности этого неравенства затем служит оправданием неравенства в других сферах: семейной, экономической, социальной. Вера в Бога, в его превосходство является косвенным признанием, что абсолютного равенства быть не может в принципе и этим обосновывается бессмысленность борьбы за него.
Либеральная конструкция справедливости основывается на свободе личности, на приоритете индивидуализма. У коммунистов личность занимает несравненно менее важное место, она в большинстве случаев подчинена коллективу. Соловьев считает, что противопоставлять личность и общество нельзя. Невозможно называть что-то целью, а что-то средством, потому что каждая личность является «средоточием бесконечного множества взаимоотношений с другим и другими» [50] и отделять её от него значит отнимать у неё действительное содержание жизни. В тоже время Соловьев считает, что именно отдельные нравственные личности становятся носителями высшего общественного сознания. Это происходит тогда, когда «единичные лица, более других одаренные» начинают испытывать влияние общественной среды, как ограничение своих положительных нравственных стремлений. Их новое сознание становится канвой, на которой строятся новые формы общественных взаимоотношений. В какой-то момент возникает конфликт между личностью и обществом, но это противоречие не является принципиальным противоречием между ними, оно только лишь характеризует различие между новой и старой стадией «лично-общественного развития».
Личность зависима от общества, но эта зависимость не выражается в отношениях с малыми формами социума. Всякая общественная группа имеет на человека лишь относительные и условные права, потому что личности присуща внутренняя беспредельность, которая не позволяет человеку отдаваться одной ограниченной форме.
В экономической сфере Соловьев отрицает, как либеральные, так и коммунистические принципы. Либералы видят основу экономического благополучия в свободных рыночных отношениях, которые в свою очередь основываются на эгоизме предпринимателей. Эгоизм для Соловьева это безжалостность, то есть безнравственность и соответственно несправедливость. Такая несвязанная частная деятельность, по его мнению, «может порождать только бедствия и грехи». Он её сравнивает с химическими процессами в организме человека. Свободно текущие химические реакции могут быть только лишь в трупе во время его разложения. В живом человеке эти процессы протекают организовано, они связаны определенными нравственными целями и именно поэтому существует жизнь. Нравственность в экономической сфере должно блюсти правительство, трудно понять, что конкретно имел в виду в этом случае Соловьев, но закон зависимости цены от спроса и предложения с его точки зрения является безнравственным и неестественным. Правильным будет регулирование цен правительством, тогда этот закон станет, если не «естественным», то положительным. Экономические законы он называет «мнимыми», так как они в любой момент могут быть нарушены и отменены нравственной волей человека. Отсутствие у капиталиста желания понизить цену на товар, говорит не о правильности экономических законов, а лишь о «слабости добродетели у этих лиц», о недостатке человеколюбия.
Достойное существование человека возможно даже при нищете, как это делают странствующие монахи, но оно невозможно, когда человека превращают в простое орудие для производства, говорит Соловьев. В этом случае человека уничтожает не нищета, а безнравственность, что невыносимо хуже. Человек трудится за гроши в течение всего дня, оставляя для отдыха лишь несколько ночных часов. Труд превращается для него из созидательного процесса в процесс «истощающий и притупляющий».
Соловьев определяет человека, как объект жалости. Именно это чувство должно установить справедливость, при этом несколько опускается ценность всякого человека, как личности. Человеку необходимо иметь средства для существования и достаточный физический отдых, чтобы он мог иметь время «для своего духовного совершенствования». «Это и только это требуется безусловно для всякого крестьянина и рабочего, лишнее же от лукавого» [50]. Из этих слова можно сделать вывод, что всякие «высокие материи», например, высокое образование для низких сословий ненужная трата времени, это является необходимостью только для аристократии, духовенства.
Имея такие воззрения, Соловьев тем не менее утверждает, что корень зла именно во власти богатых (плутократии), то есть собственно говоря, во власти тех же аристократов, буржуазии и духовенства. «Общественная безнравственность заключается не в индивидуальной и наследственной собственности, не в разделении труда и капитала, не в неравенстве имуществ, а именно в плутократии, которая есть извращение должного общественного порядка, возведение низшей и служебной по существу области – экономической на степень высшей и господствующей и низведение всего остального до значения средства и орудия материальных выгод»[50]. То есть он совершенно не согласен с коммунистами, что все беды от частной собственности, причина заключается в безнравственной организации общества, государства, но он также не согласен и с либералами, которые корыстным частным предпринимательством превратили массу людей в орудия производства, без права на мораль.
Каким конкретным образом должна быть построена экономика нравственного государства не ясно. Описания отдельных его элементов не складываются в целостную картину. Соловьев отрицает существование каких либо экономических законов, он лишь указывает, что частное богатство должно быть согласовано с общим благом, а истинным принципом экономической жизни человечества является нравственная обязанность воздержания. Подтверждается и важность отношения человека к материальной природе, но и оно должно быть «введено в норму добра», то есть в «воздержание от дурной плотской безмерности». Соловьев пишет, что «действительное осуществление человеколюбия должно захватывать область материальной жизни».
Он конечно не призывает к борьбе против частной собственности или к уравниванию имуществ, он лишь указывает, что частное богатство должно соответствовать безусловному нравственному началу. Соловьев подводит нравственную основу под законы о наследовании. Наследство, по его мнению, это не столько богатство, капитал, который может быть пущен в погоню за прибылью, это необходимый элемент нравственного единства в семейных взаимоотношениях. «Наследственное состояние есть, с одной стороны, воплощение переживающей, чрезмогильной жалости родителей к детям, а с другой стороны, реальная точка опоры для благочестивой памяти об отшедших родителях»[50]. Если же в наследство достается земельный надел, то это способствует еще и духовному единению с родной природой.
Богатый человек должен поддерживать общественную мораль, которая сострадательна ко всем членам общества. «Экономическая задача государства, действующего по мотиву жалости, состоит в том, чтобы принудительно обеспечить каждому известную минимальную степень материального благосостояния как необходимое условие для достойного человеческого существования[50].
Соловьев, хоть и ратует за заботу об экономически слабых членах общества, то есть за социальную защиту, абсолютно отвергает социалистические идеи. Главным расхождением в идеях есть признание социалистами за материальной стороной жизни полноправия и самостоятельности, при этом как бы не упоминается о необходимости её нравственного наполнения. Этот факт признается Соловьевым, как отказ от духовности. Он считает, что нельзя «служить двум господам». «То обстоятельство, что социализм изначала – даже в самых идеалистических своих выражениях ставит нравственное совершенство общества в прямую и всецелую зависимость от его хозяйственного строя и хочет достигнуть нравственного преобразования или перерождения исключительно лишь путем экономического переворота, ясно показывает, что он в сущности стоит на одной и той же почве с враждебным ему мещанским царством на почве господства материального интереса» [50]. Соловьев считает, что социальная революция делается рабочими только потому, что они усвоили материалистический культ своих хозяев и попросту «сами хотят быть в нем жрецами, а не жертвами». Выход из порочного круга возможен лишь тогда, когда и социалисты и либералы признают, что человек есть нечто более важное, чем простой производитель материальных ценностей.
Вектор справедливости, достаточно ясно выражен в конструкциях либеральных и коммунистических. В них всё понятно – развитие идет в сторону расширения границ прав и свобод, равенство распространяется на всё большее количество сфер жизни, возможности уравниваются. Равенство перед богом заменяется в одном случае равенством возможностей, в другом дополняется еще равенством экономическим и социальным. У Соловьева вектор размывается и даже поворачивает назад. Это связано с религиозной основой его философии, которая отодвигает человеческую личность на второй план. Поэтому природная свобода заменяется подчинением высшим силам, а неравенство оправдывается, как элемент поклонения им. Тем не менее, нельзя категорически сказать, что философия Соловьева это путь назад. Она пронизана человеколюбием, недаром жалость показывается, как один из основных элементов конструкции справедливости. Формально утверждая несвободу и неравенство перед высшими силами, Соловьев желает человеку добра. Он просто не связывает с этой категорией свободу и равенство, считает, что человек может обойтись их ограниченным внутренним составом. Духовность, то есть совесть, жалость и любовь к Богу, по его мнению, вполне достаточна для ощущения справедливого состояния общества.
§ 15 Бердяев, исследование глубин понятий свобода и личность
Николай Александрович Бердяев был учеником и оппонентом Владимира Сергеевича Соловьева. Он прожил долгую и бурную жизнь, пережил две мировые войны, гражданскую войну в России и несколько революций. Его путь был тернист и извилист, возможно поэтому его философия так неоднозначна и во многом противоречива.
Говоря о философии Бердяева, невозможно детерминировать конструкцию справедливости, в принятом для данного исследования понимании. Конструкции, как таковой не существует, она не выстраивается на фундаменте его философии, не является логическим продолжением. Можно говорить лишь о ряде идей, которые не связаны между собой в стройную систему, элементы которых часто противоречивы, иногда даже совершенно исключающие друг друга. Однако это не принижает роли его теорий. Не внеся общей конструктивности, он исследовал отдельные элементы справедливости, придал им совершенную новизну и глубину, возможно еще до сих пор не понятую. Особенно это касается понятий свобода и личность.
Противоречивость идей Бердяева, о которой он часто сам упоминает в своих работах, видимо имеет корень в его характере, в самом течении жизни мыслителя. Противоречивости он не стесняется, наоборот он говорит о её неизбежности. «В моей философии есть противоречия, которые вызываются самим ее существом и которые не могут и не должны быть устранены»[7]. Бердяев проделал сложный путь от марксизма и антиклерикальных взглядов до религиозного экзистенционализма, притом, что всегда считал Маркса гением, о чем он упоминает в «Самопознании», работе написанной на склоне жизни.
Бердяев внутренне противоречив, но отметим, что философия далеко не всегда давала ясные ориентиры справедливости, помогала очертить «должное», как понятное большинству определение, поэтому его философия, в этом смысле, не является чем-то исключительным. Поражает другое, раскованность мышления Бердяева, отсутствие границ в посещении глубин познания.
Внутренней основой его философии является свобода, казалось бы привычный элемент любой конструкции справедливости, но то, как он о ней пишет достойно особого внимания и исследования. Свобода для Бердяева это не элементарные взаимоотношения между людьми и обществом, это понятие на порядок более сложное. «Свобода личности совсем не есть её право, это поверхностный взгляд. Свобода личности есть долг, исполнение призвания, реализация Божией идеи о человеке, ответ на Божий призыв»[9]. Человек должен быть свободен, он не имеет права быть рабом, но быть свободным человеком это труд, огромный труд, который под силу немногим. Неважно, религиозен человек или нет, даже, если абстрагироваться от религиозной составляющей, такое определение производит впечатление, своей глубиной и неординарностью.
Свобода, считает мыслитель, не дается по праву рождения, её можно только приобрести, заслужить, став личностью. Она не может быть неотъемлемым качеством человека, её нельзя трактовать, как рефлекс социальной среды. Человек не может безусловно требовать свободы от общества, он должен её завоевать, заслужить, воспитать в себе, выстрадать.
Свобода абсолютна, свободный человек не может желать господства над другим человеком, ибо этим он сразу же теряет собственную свободу. Господин не может быть свободным, получая господство, он обретает зависимость, поэтому всех людей Бердяев делит не на две категории, а на три: господ, рабов и свободных.
Только личность способна быть свободной, это состояние духовное, оно не может быть данным от природы, но не каждый человек достигает его. «Личность должна себя созидать, обогащать, наполнять универсальным содержанием, достигать единства в цельности на протяжении всей своей жизни» [9]. Личность должна заниматься творчеством, совершать самобытные поступки и только это делает её личностью.
Личность это есть победа над социализацией человека, её выделение из массы. «Вполне социализированный и цивилизованный человек может быть совершенно безличным, может быть рабом, не замечая этого» [9]. Личность это не часть общества, не единица народа или племени. Личная мораль, по мнению Бердяева, всегда имеет приоритет перед моралью государственной потому, что она есть мораль человеческая, а государственная не может быть человеческой, это мораль власти. «Смерть одного человека, последнего из людей, есть более важное и более трагическое бытие, чем смерть государств и империй» [9].
Не может быть настоящей и ненастоящей личности. Личность не определяется обществом или наследственностью, это наличие свободы в человеке, свободы, которая достигается посредством творчества. Именно поэтому Бердяев разделяет понятия личность и индивидуум. «Индивидуум есть категория натуралистическая, биологическая, социологическая. Он не только может быть частью рода или общества, как и космоса в целом, но он непременно мыслится, как часть целого, и вне этого целого не может быть назван индивидуумом» [9]. Индивидуум это продукт материального мира, он порождается социальным процессом, в то время как личность – категория не натуралистическая, а духовная. Поэтому утверждение высшей ценности личности это не индивидуализм, это совершенно иной процесс. Это не утверждение своего положения в обществе, как в случае с индивидуумом, это создание коммуникаций, для дальнейшего творчества.
Индивидуум же стремится к завоеванию места в социуме, без него он не мыслит своего существования. При этом он воспринимает влияние общества, как насилие, сопротивляется ему, но не может достойно ответить, поэтому часто пытается изолировать самого себя от него, но снова безуспешно. Такой человек раздирается противоречиями: с одной стороны он хочет быть частицей целого, с другой презирает это целое, отвергает его. Он одержим иногда страстью, иногда высокой идеей, но эта одержимость означает потерю возможности обрести свободу и стать личностью. Он эгоцентричен, это «первородный грех человека», нарушение истинного соотношения между собственным «Я» и окружающим его миром. Невозможность обрести свободу порождает рабство.
Понятие рабства Бердяев рассматривает очень широко, подобная практика уже была у философов Древней Греции. Любая зависимость человека от чего угодно: от другого человека, от общества, экономических обстоятельств, чего-либо иного, квалифицируются, как рабство. Нам трудно не согласиться с этим, учитывая опыт последних десятилетий, когда обновление списка зависимостей поражает даже искушенное воображение.
Рассматривая рабство, Бердяев заостряет внимание на двойственной сущности человека. С одной стороны, он хочет быть свободным, но осознание своей слабости и своего ничтожества наполняет его жаждой могущества и величия. Он хочет освободиться, но часто движется не по пути своего освобождения, а по пути порабощения других. Ему кажется, что это одно и то же, на самом деле он порабощает не только другого, но и самого себя. «Свободный ни над кем не хочет господствовать»[9], – говорит Бердяев, он конечно, имеет в виду свободную личность, а не индивидуума, который занял господствующее место в обществе и мнит себя свободным.
«Приходится постоянно повторять, что человек есть существо противоречивое и находится в конфликте с самим собой. Человек ищет свободы, в нем есть огромный порыв к свободе, и он не только легко попадает в рабство, но он и любит рабство. Человек есть царь и раб»[9], – пишет Бердяев в своей книге «О свободе и рабстве человека». С любовью к рабству можно и не соглашаться, чаще всего подобная реакция является выбором меньшего из зол и дальнейшим приспособлением к ситуации, которое иногда проявляется, как любовь к властителю, но противоречивость человека неоспорима. Бердяев обращает особое внимание на то, что господство по сути является обратной стороной рабства, это две стороны одной медали. Часто прекращение рабства становилось началом господства и наоборот, но человек должен стремиться не к господству, а к свободе.
Это касается положения человека в сообществе любого уровня: в семье, в общине, в государстве. Свобода даже верховного правителя – иллюзия. «Вождь толпы находится в таком же рабстве, как и толпа, он не имеет существования вне толпы, вне рабства, над которым он господствует…»[9]
Раб – не только подданный, но и вождь, который находится в рабстве от своего окружения, всего народа. Более того он находится в рабстве, как и все его подданные от обычаев и традиций. Рабство общественного мнения держит за горло каждого индивидуума, ему навязывают суждения, мнения, за него думают. «Средний человек нашей эпохи имеет мнения и суждения той газеты, которую он читает каждое утро, она подвергает его психическому принуждению »[9]. Бердяев еще не знал силы влияния телевидения и интернета, настоящее рабство от масс-медиа только начиналось.
Но одним из самых отвратительных видов рабства он называет экономическое. Оно превращает человека в вещь, в предмет, в орудие производства, лишает всякой духовности, а значит даже надежды на свободу. «Человек не лишается прямо, путем физического насилия, свободы совести, свободы мысли, свободы суждения, но он поставлен в материально зависимое положение, находится под угрозой голодной смерти и этим лишен свободы. Деньги дают независимость, отсутствие денег ставит в зависимость» [9].
Несмотря на принадлежность Бердяева к религиозному течению философии, он считает, что есть рабство и религиозное. Это происходит потому, что церковь – социальный институт. Противоречивость её существования приводит к тому, что она, которая, по мнению философа, должна освобождать человека, его порабощает. «Рабство религиозное, рабство у Бога и рабство у церкви, т. е. у рабской идеи Бога и рабской идеи церкви, было самой тяжелой формой рабства человека и одним из источников рабства человека», – пишет Бердяев [9].
Но рабство у коллектива не менее тягостно, чем рабство церкви. «Коллектив начинает играть роль церкви, с той разницей, что церковь все-таки признавала ценность личности и существование личной совести, коллективизм же требует окончательно экстериоризации совести и перенесения её на органы коллектива»[9]. Коллективизм всегда авторитарен, он просто приговорен к рабству его членов.
Человек, по мнению Бердяева, в рабстве не только у церкви, Бога и коллектива, но и у самой природы и космоса. «Природа прежде всего для меня противоположна свободе, порядок природы отличается от порядка свободы»[9], – пишет Бердяев. Человек, как личность не может быть частью природы. В нем есть природа, но он свободен от неё, до тех пор, пока сам не дает согласие на господство «так называемых "законов" природы, которые открывает и конструирует человек своим научным познанием»[9]. Человек борется с насилием природной необходимости методом её познания, преодолевает её с помощью технологий, частично освобождается от рабства стихийных сил природы, но тут же «попадает в рабство у самой созданной им техники».
Человек есть не только раб природы, но и цивилизации. Она-то и создается ним, чтобы освободиться из-под власти стихии природы. «Цивилизация не есть последняя цель человеческого существования и верховная её ценность. Она обещает освободить человека, и, бесспорно, она дает орудия освобождения»[9]. Но освобождаясь от сил природы, человек попадает в зависимость от цивилизации, со всеми её особенностями, плюсами и минусами.
Этот замкнутый круг всеобщего рабства в философии Бердяева настораживает и даже угнетает, но в этом и проявляется определенная противоречивость, а может быть «хитрость» Бердяева. С одной стороны, человека на каждом шагу преследует рабство, с другой он стремится и достоин стать свободной личностью, то есть преодолеть, освободиться от рабства. Этой поляризацией Бердяев, как бы пытается стимулировать людей к творчеству, к стремлению к настоящей свободе. Он особенно подчеркивает, что формальное освобождение рабов путем социального акта далеко не всегда приводит к их внутреннему, духовному освобождению, только явление личности приводит к искоренению рабства.
Многие виды рабства могут быть совершенно незаметными как для раба, так и для господина. Они привычны, они не кажутся насилием. Более того движение для уничтожения такого рабства может представляться насилием, особенно теми людьми для которых этот «привычный социальный строй представляется свободой, хотя бы он был страшно несправедлив» [9].
Несмотря на состояние такого всеобщего рабства, идея равенства, по мнению Бердяева, просто не имеет смысла. Если свобода является альтернативой рабства, то равенство может иметь лишь некоторое практическое значение на одном из этапов борьбы за освобождение человека. «Но сама по себе идея равенства пустая, она сама по себе не означает возвышения каждого человека, а завистливый взгляд на соседа» [7]. Равенство это пафос масс, а не личностей, между волей к свободе и волей к равенству никогда не будет примирения. Равенство это не освобождение, это всего лишь идея, которая может служить промежуточной целью в достижении свободы. Равенство не может быть интересно личности. «Свобода и равенство несовместимы. Свобода есть прежде всего право на неравенство. Равенство есть прежде всего посягательство на свободу, ограничение свободы»[8].
Что же такое, по мнению Бердяева, общество свободных личностей? Можно ли его детерминировать? Понятно, что в нем не будет рабства, не будет и равенства, но можно ли его описать? «Общество свободных, общество личностей не есть ни монархия, ни теократия, ни аристократия, ни демократия, ни общество авторитарное, ни общество либеральное, ни общество буржуазное, ни общество социалистическое, ни фашизм, ни коммунизм, даже ни анархизм, поскольку в анархизме есть объективация»[9], – пишет Бердяев. О нём можно говорить лишь в отрицательных категориях, то есть определять то, чем оно не является. По его мнению, это апофатическое, принципиально невыразимое явление.
Однако апофатика общества свободных противоречит другим суждениям философа. В работе «Философия неравенства» он прямо пишет: «Аристократия, как управление и господство лучших, как требование качественного подбора, остается на веки веков высшим принципом общественной жизни, единственной достойной человека утопией» [8]. Он хотя и иронизирует, называя власть аристократии утопией, но подбор лучших, логически перекликается с идеей формирования личностей, не определена лишь методика подбора. Общество свободных должно быть аристократическим, то есть наполненным людьми, достигшими духовной свободы, людьми, достигшими такой «независимости от окружающего мира, человеческого количества, в какой бы форме оно ни явилось, как слушание внутреннего голоса, голоса Бога и голоса совести»[9].
Но аристократизм Бердяева это не социальный аристократизм, основанный на наследственности, родовитости. Это не «подобранная в родовом процессе раса, свойства которой передаются по наследству». Аристократизм Бердяева аксиологический, это явление личностное, не привязанное к группам общества.
Он очень осторожно относится к человеческим массам, считает их опасными. В них у людей не выражены личности, от этого большая возбудимость и как следствие «психологическая готовность к рабству». Такие массы способны довольно легко принимать техническую цивилизацию, но «с большим трудом усваивает духовную культуру». Культура, основанная на аристократическом принципе, отбирает и хранит лучшее, поэтому понятие массовой культуры совершенно не совпадает с представлением Бердяева об идеальном обществе.
Тем не менее, он считает, что движения масс за социальное уравнивание имеет свой особый смысл. «Социально уравнительный процесс, направленный к уничтожению социально-классовых привилегий, может как раз способствовать выявлению действительных, реальных личных неравенств людей, т. е. обнаружению личного аристократизма»[9]. Искоренение различных видов неравенства вроде экономического, социального, политического должно привести к ситуации, когда останется только неравенство личностное, основанное исключительно на индивидуальных качествах человека.
Неравенство в интерпретации Бердяева носит не только отрицательный характер, оно имеет двойное значение. Быть неравным это не всегда значит быть ущербным, скорее быть разным. Люди не могут и не должны быть одинаковыми, поэтому они и не должны быть равными друг другу.
Масса и аристократия не противопоставляется друг другу, в подтексте идет мысль о перетекании людей из масс в аристократию. «Аристократизм свободы, аристократизм личного достоинства и чести должен быть перенесен на всех людей, на всякого человека, потому что он человек» [9]. Возвращаясь назад можно сказать, что общество свободных – это общество аристократических личностей воспитанных, выстраданных массой человечества. Людей внутренне независимых, «не допускающих себя до смешения с безликой мировой средой». Людей, которые ничего не требуют для себя, никаких дополнительных прав и привилегий, они отдают, они чувствуют ответственность и обязанность служения. Аристократ идеального общества это не «лучший» презирающий массу, а «лучший» в историческом смысле, по отношению к прошлому человечества. Все люди могут стать лучшими. Все могут и должны стать лучшими представителями человечества.
Высокие мотивы аристократической личности в философии Бердяева присутствуют параллельно с теорией государства и применением силы. Он оправдывает применение насилия при рождении государств, будучи уверенным, что в противном случае человечество погрузилось бы в хаос.
Нужно «подчиниться божественному миропорядку, принять внутреннюю правду водительствующих в истории сил» [8], иначе вы будет раздавлены природными силами. Государство, считает Бердяев, нельзя оценивать утилитарно, его существование имеет положительный религиозный смысл и оправдание. «Власть государства имеет божественный онтологический источник»[8]. Главным ограничением государственной власти, по мнению Бердяева, может быть лишь религия и духовность, но нельзя отождествлять божественную власть и государство. Как мы уже вспоминали мораль государства всегда ниже морали личности, поэтому не может быть приоритета государственных интересов, над интересами личности. Нельзя для спасения или усиления государства казнить невинного. Бердяев вспоминает слова Ницше, которого с его точки зрения несправедливо сделали «обоснователем фашистской морали»: « … государство есть самое холодное из чудовищ и что человек начинается там, где кончается государство»[9]. Источник власти государства иррациональный, даже самое демократичное государство всегда нуждалось в мифах, оно не могло существовать без непознаваемых символов.
Философия Бердяева с течением времени претерпевала изменения, не всё то, что написано в начале двадцатых соответствует концу тридцатых или сороковым годам. Постепенно переходя от защиты права государства к его критике, Бердяев доходит до анархизма Толстого, до его религиозной составляющей. «Религиозная правда анархизма есть правда апофатики. Государство, власть связаны с злом и грехом, они не переносимы ни на какое совершенное состояние. Освобождение человека от рабства есть достижение безвластия»[9]. Бердяев приходит к мнению, что человек существо самоуправляющееся и что отблеск этой истины есть в демократии, но всегда искажается. «Самоуправление человека всегда означает, что достигнуто соглашение между внутренней и внешней свободой. Власть же над человеком есть зло и даже источник всякого зла»[9].
Если же всё-таки продолжать пытаться нащупать контуры конструкции справедливости Бердяева, то нужно отметить такой элемент, как осуждение национализма. Он отмечает, что любовь к своему народу это очень положительное и естественное чувство, но «национализм требует нелюбви, вражды, презрения к другим народам. Национализм уже есть потенциальная война» [9]. Националисты не интересуются личностями, для них важнее коллективизм, принцип силовой организации. «При торжестве национализма господствует сильное государство над личностью, господствуют богатые классы над бедными»[9]. То есть националистическая политика всегда приводит к насилию, она побуждает к созданию идолов, первым идолом в этом ряду есть сама нация.
В завершении разговора об идеях справедливости философии Бердяева необходимо вспомнить о его взглядах на революции. С одной стороны он убежден, что революция необходима и она неизбежно должна произойти. Но необходимая революция – это не переворот во имя нового общества, а действие во имя человека. Все прошедшие революции производились для уничтожения старых порядков во имя торжества в будущем лучшей жизни, но это разрушение всегда приводило к истреблению свободы. Деятели революции вводят террор, тиранию, льют человеческую кровь. Их главная ошибка, как считает Бердяев, в том, что они неправильно относятся к времени. Они рассматривают настоящее исключительно, как средство, а будущее, как цель. «Поэтому для настоящего утверждается насилие и порабощение, жестокость и убийство, для будущего же свобода и человечность, для настоящего кошмарная жизнь, для будущего райская жизнь. Но великая тайна скрыта в том, что средство важнее цели. Именно средства, путь свидетельствуют о духе, которым проникнуты люди»[9]. Настоящая революция это не столько натуральное действие, сколько изменение духовное. Важнее изменения внутренние, нравственные, чем изменения экономические, политические и даже социальные.
Мне кажется, что справедливость Бердяева не понята до сих пор, вероятно, его философию можно назвать философией будущего. Его исследования о сущности свободы и рабства очень важны для формирования конструкций двадцать первого века. Это можно заключить при рассмотрении движения человечества по вектору совершенствования справедливости. Бердяев рассматривает многие её элементы не утилитарно, а возвышено, что пока не характерно для формирования конструкций современности. Однако именно такой подход в развитии понимания «должного» вероятно имеет наилучшую перспективу в будущем. Это будет особенно заметно при рассмотрении других векторов, в частности вектора совершенствования потребления.
§ 16 Региональная разница в конструкциях справедливости
Бердяев родился и начал свою деятельность еще в веке девятнадцатом. Плавно переходя из века XIX-го в век XX-й нужно обратить внимание на одну особенность конструкций справедливости этого периода, особенно это касается либеральной. Интенсивное экономическое развитие в веке девятнадцатом дало толчок процветанию стран Западной Европы и Северной Америки, в то же время другие страны «застряли» на более низком уровне, что позволило европейцами и американцам вести активную колониальную политику. Мы еще в Древности отмечали, что «чужие» страны расценивались, как враждебные, теперь эта ситуация несколько выровнялась. Иностранец уже не воспринимался, как однозначный враг, но всё равно в международной политике господствовала теория избирательной справедливости.
Как пишет И.М. Дьяконов: «Вся капиталистическая фаза являет картину прогрессирующего превращения отсталых частей Земного шара в колонии с более или менее бесправным населением, управляемым колонизаторами, вплоть до полного раздела всех доступных территорий в начале XX в»[19]. Те нормы морали, которые проповедовались в Европе и США не применялись к населению завоеванных колоний. Разговоры о равных правах, возможностях и даже свободе на территориях многих стран Азии и Африки были, с точки зрения колонизаторов, просто неуместны. Поражены в правах были целые страны и народы. Либеральная конструкция справедливости уже набравшая популярность в странах колонизаторах, не имела никакой поддержки в странах колониях. Так продолжалось до второй половины двадцатого века, пока большинство из стран колоний не стали независимыми, но и сейчас если не на авансцене, то за кулисами такая избирательность присутствует.
В данном исследовании рассматриваются только авангардные изменения конструкций справедливости, поэтому мы оставляем в стороне целые огромные регионы, в которых изменения имеют признаки более ранних конструкций европейского и североамериканского социумов. До настоящего времени во многих странах существует дискриминация женщин, преобладание религиозного обоснования справедливости на государственном уровне и многое другое, что является уже отжившими элементами в конструкциях справедливости передовых стран. Конечно, при этом присутствуют свои национальные или конфессиальные особенности, но в принципе конструкции справедливости таких стран повторяют элементы уже бывшие ранее в других частях планеты.
Европа и несколько позже Северная Америка, начиная с XIV – XV веков были и пока еще остаются флагманами не только экономического развития, но и социально-организационного. Именно поэтому мы так много внимания уделяем европейским и американским философам.
§ 17 Макс Вебер, историческое преобразование этики
Макс Вебер является знаковой фигурой в развитии конструкции либеральной справедливости. Во-первых, он был одним из основоположников социологии, а социология очень тесно связана с процессами поиска справедливости. Во-вторых, его особая заслуга в том, что он первым показал, как формировалась либеральная конструкция справедливости исторически, как этика влияла на легитимность экономических отношений, как религиозная этика преобразовывалась в этику светскую. Вообще это была первая попытка понять, а почему мы ощущаем справедливость именно так, а не иначе. Почему для нас одно действие кажется справедливым, а другое нет.
В своей работе «Протестантская этика и дух капитализма» Вебер описал истоки отдельных, но очень важных элементов капиталистической конструкции справедливости Нового времени. Мы уже ранее обсуждали влияние реформаторских религиозных движений на этическое устройство экономики. Протестанты в противовес другим христианским конфессиям – католиками и православным сделали процесс материального накопления справедливым. Богатому человеку уже не нужно было стыдиться своих достатков, исчезло тождество богатый – нечестный. Эгоизм, очень важный элемент капиталистической концепции, перестал восприниматься, как отрицательное явление.
Вебер заметил, что среди «владельцев капитала и предпринимателей» большинство протестанты. Причиной этому, по его мнению, была не случайность, а исторически обоснованный процесс. Но объяснение такого явления не могло быть простым и схематичным, как казалось на первый взгляд. Католики действительно отличались проповедованием аскетизма, уходом от мирской суеты, проповедованием греховности человеческих желаний. Они порицали ростовщичество и стремление к накоплению, то есть их мораль не располагала к предпринимательству, то же можно сказать о православии. Но среди некоторых протестантов, например пуритан и кальвинистов, было такое же «отчуждение от мира», проповедование аскетизма, как и среди католиков, тем не менее среди наиболее религиозных кальвинистов часто встречались люди особо искусные в предпринимательстве. В их морали проявлялось то, что Вебер назвал «духом капитализма».
Как наиболее наглядный пример изложения «духа капитализма» он приводит трактат Бенджамина Франклина. Это не простое описание, а по своей сути свод нравственных принципов. Характерной особенностью этого свода есть то, что все изложенные правила обязательно несут отпечаток утилитарности. Все добродетели, по мнению Франклина, в первую очередь являются таковыми потому, что они полезны: « …честность полезна, ибо она приносит кредит, так же обстоит дело с пунктуальностью, прилежанием, умеренностью — все эти качества именно поэтому и являются добродетелями» [11].
Полезность ставится во главу угла, но тогда возникает сомнение, если добродетели хороши только потому, что они приносят пользу, то нет ли здесь опасности их подмены. Одна только видимость добродетелей так же может приносить пользу, например предпринимателю, когда он будет демонстрировать, скажем, свою высокую порядочность, на самом деле её не имея. К нему устремятся покупатели, но в результате он их всё равно обманет. Вряд ли мнимая честность может заменить истинную или показное прилежание заменить истинную любовь к труду, хотя и первое и второе может иметь для кого-то определенную пользу.
Вебер оправдывает положение о полезности добродетелей, утверждая, что склонность к ним в первую очередь вызвана божественным откровением, благодаря которому Франклин оценил их «полезность». Однако по сути, трактовка добродетелей с точки зрения пользы не соответствует древним христианским канонам, когда о пользе труда или честности не рассуждали, их добродетельность воспринимали apriori. В данном случае еще раз можно наглядно убедиться, что понимание справедливости реально изменяется во времени.
Вебер на примере правил Франклина фактически описывает сложившуюся мораль капитализма. Но он не просто её описывает, он раскрывает сущность её отдельных элементов, обоюдную связь между моралью и экономикой. «Альфой и омегой морали Франклина» является деловитость, целью которой есть приобретение денег законным путем. В основе «должного» лежит предпринимательство, честное, законное, полезное, но эгоистичное. Страсть к приобретательству, которая была у людей с древних времен, но до капитализма служила лишь средством удовлетворения материальных потребностей, теперь становится главной целью в жизни. «Summumbonum («высшее благо» лат. А.С.) этой этики прежде всего в наживе, во все большей наживе при полном отказе от наслаждения, даруемого деньгами, от всех эвдемонистических или гедонистических моментов: эта нажива в такой степени мыслится как самоцель, что становится чем-то трансцендентным и даже просто иррациональным по отношению к «счастью» или «пользе» отдельного человека», – считает Вебер[11].
Он подчеркивает, что образ мыслей описанный Франклином, который «встретил сочувствие целого народа, в древности и в средние века был бы заклеймен как недостойное проявление грязной скаредности…»[11]. То есть, начиная с XVIII века, произошло коренное изменение морали, эгоизм и стяжательство стали нормой и справедливым действием. Эта мораль, конечно, не была принята всеми, слои населения несвязанные с предпринимательством, её не приняли. Однако это вызвано не тем, что у этих людей нет алчности, как у капиталистов или например, алчность аристократов в средние века была меньшей. Жажда денег китайских мандаринов или римских патрициев вполне сравнима с современными предпринимателями. «Безудержное, свободное от каких бы то ни было норм приобретательство существовало на протяжении всего исторического развития, оно возникало повсюду, где для него складывались благоприятные условия»[11]. Но тогда абсолютно бесцеремонная погоня за наживой сочеталась с верностью религиозным традициям. Накопление не возводилось в культ. Полученное в результате торговли, грабежа, войны богатство не рассматривалось, как трамплин к еще большему богатству. Даже когда появился труд по найму, многие работники не пытались заработать еще больше, хоть их к этому поощряли работодатели. При повышении расценок в сдельной оплате труда, они удовлетворялись уже достигнутой оплатой, предпочитая выполнять меньше работы. Таким было традиционное, докапиталистическое мышление.
Теперь же ситуация коренным образом изменилась. Деньги, полученные от торговой операции, от продажи произведенных продуктов не тратились для достижения роскоши, не складировались в чулок, даже не отдавались в рост, а снова вкладывались в предприятие. Радостью жизни стало не удовлетворение от потребляемых продуктов, а получение новой прибыли. Возникает удовольствие от вечной погони за наживой, плодами которой почти не пользуются. «Если спросить этих людей о «смысле» их безудержной погони за наживой, плодами которой они никогда не пользуются и которая именно при посюсторонней жизненной ориентации должна казаться совершенно бессмысленной, они в некоторых случаях, вероятно, ответили бы (если бы они вообще пожелали ответить на этот вопрос), что ими движет «забота о детях и внуках»; вернее же, они просто сказали бы (ибо первая мотивировка не является чем-то специфическим для предпринимателей данного типа, а в равной степени свойственна и «традиционалистски» настроенным деятелям), что само дело с его неустанными требованиями стало для них «необходимым условием существования»[11]. Вебер отмечает иррациональность такого образа жизни с точки зрения личного счастья, так как в этом случае человек существует для дела, а не дело для человека.
Стремление к власти, которую дают деньги и «романтика цифр», возможность называться миллионером, могут только частично объяснить такое поведение, потому что многие из предпринимателей весьма спокойно и даже равнодушно относятся к подобным вещам. Идеальному типу капиталиста чуждо упоение властью, а тем более расточительство. «В характере капиталистического предпринимателя часто обнаруживаются известная сдержанность и скромность, значительно более искренняя, чем та умеренность, которую столь благоразумно рекомендует Бенджамин Франклин». Самому предпринимателю такого типа богатство «ничего не дает», разве что иррациональное ощущение хорошо «исполненного долга в рамках своего призвания» [11].
Именно это кажется некапиталистическому человеку наиболее непонятным и недостойным. Погоня за наживой, ради самой наживы, выглядит для него совершенным извращением! Это не вызывает удивления, потому что «концепция наживы как самоцели, как «призвания» противоречит нравственным воззрениям целых эпох». Еще во времена Средневековья Фома Аквинский в своих работах определил жажду наживы, в том числе связанную с предпринимательством, как «turpitudo» – непристойность, Антонин Флорентийский считал такую деятельность «pudendum» – позорной. Это мнение поддерживалось на протяжении многих веков.
Мануфактуры и промышленность, которые появлялись, принимались, скрепя сердце, как необходимый элемент материального развития, но дух капиталистического стяжательства отвергался, считался низостью. Даже в самой среде мануфактурщиков, торговцев, ростовщиков их деятельность считалась долгое время, как нечто «этически индифферентное, терпимое». Вебер пишет: «Источники свидетельствуют о том, что после смерти богатых людей весьма значительные суммы поступали в церковную казну в виде «покаянных денег», а в иных случаях и возвращались прежним должникам в качестве несправедливо взятых с них «usura» (процентов А.С.) [11]. Перед смертью капиталисты пытались примириться с церковью, спасти свою душу.
В чем же причина появления особой морали – «духа капитализма», как его называет Вебер? Поиск ведется по разным направления, он приводит пример развитого капитализма Флоренции и примитивного, еще не оформившегося капитализма полудеревенской Пенсильвании. Сравнивая их, Вебер приходит к выводу, что причиной появления «духа капитализма» не могли быть материальные условия, как утверждал Маркс. Во Флоренции капиталистическое производство и банковское дело в то время были развиты несравненно выше, но «дух» зародился в мелкобуржуазной Америке. Причина здесь и не в национальных особенностях Америки, не в рациональности переселенцев из Старого Света. Вебер утверждает, что новые капиталистические отношения, распространялись и не благодаря использованию механизации, новой организации производства, вложению новых еще больших сумм денег в него, но благодаря распространению другого мышления, того мышления о котором говорил Франклин.
Откуда же появилось это мышление? Связь с протестантизмом конечно существует, но ни в коем случае нельзя говорить, что «дух капитализма» – егопрямой продукт. Мораль, из трактата Франклин, никогда не была целью реформатов, они не задумывались о рациональности жизни, об умножении богатства. Нет, их целью было спасение души! Никто из идеологов протестантизма не пытался пробудить «дух капитализма». Стремление к мирским благам, как самоцель никогда не было для них этической ценностью.
В этом случае можно говорить о том, что культурные влияния реформаторских церквей имели случайный и даже в некоторых случаях нежелательный для первоисточников результат. Произошло то, о чем мы упоминали в рассуждениях о работах Томаса Гоббса. Придумав общественный договор, он пытался защитить монархию, но эта придумка в дальнейшем помогла для обоснования многих концепций совершенно другого, демократического мышления. Можно сказать, что современный «дух капитализма» это искаженная религиозная мораль протестантизма, связь между ними очень непростая, преобразование взглядов радикальное, часто просто причудливое, особенно при сравнении начальной и конечной стадии.
Один из истоков преобразования морали реформатов в «дух капитализма» Вебер видит в центральном догмате лютеранства. Согласно ему единственным средством стать угодным Богу считается «исключительно выполнение мирских обязанностей так, как они определяются для каждого человека его местом в жизни». Исполнение этих обязанностей противопоставляется монашеству. «Пренебрежение мирской нравственностью с высоты монашеской аскезы»[11] считается неправильным путем к Богу. Этим догматом простые, мирские обязанности человека объявляются его «призванием». Профессиональная деятельность людей характеризуется Лютером, как проявление христианской любви к ближнему, а монашеский образ жизни, с его точки зрения, «являет собой лишь порождение эгоизма и холодного равнодушия, пренебрегающего мирскими обязанностями человека»[11]. Но, конечно, этот догмат нельзя понимать, что он буквально стал основой «духа капитализма». Как пишет Вебер: «Лютер решительно отмежевался бы от любой концепции, близкой к той, которая выражена в трудах Франклина»[11]. Устанавливая этот догмат, Лютер преследовал совершенно иные цели. Сам он был далек от мыслей близких к предпринимательству, «духу капитализма», в частности резко не принимал ростовщичество. Свои воззрения Лютер сверял по Библии, а в ней ясно утверждается, что «каждый пусть остается при «пище» своей, предоставляя безбожникам погоню за прибылью».
Идея профессионального призвания – это рефлексия Лютера, отражение его тогдашней настроенности, следствие его погружения в мирские дела. В кальвинизме эта идея становится уже не просто теоретической конструкцией, а «важнейшим элементом этической системы». Она становится основой метода подтверждения избранности. Как известно в кальвинизме принята доктрина предопределения – спасутся только избранные. Отверженные не могут иметь даже надежды на спасение, что бы они не предпринимали. Но как узнать, избран ли ты Богом или нет? Верующий должен считать себя избранником Божьим и прогонять все сомнения на этот счет, как дьявольское искушение, но уверенность в своей избранности он может обрести только в том случае, если будет денно и нощно трудиться на своей профессиональной ниве данной ему, как закон природы. Любовь к ближнему в кальвинизме, как и у Лютера, находит своё выражение в служении Богу при выполнении своего профессионального долга. Работа по его выполнению не помогает стать избранным, такие попытки тщетны, но она есть самое верное средство обрести уверенность в своей избранности.
Еще одним из источников «духа капитализма», по мнению Вебера, стала протестантская аскеза, особенно аскеза кальвинистов и их последователей, её идея напрямую связана с главным догматом лютеранства. Страсть к приобретательству, к богатству, наживе рождалась в отречении от мирских благ, как это не звучит парадоксально. Вероятно дело в том, что протестантская аскеза существенно отличается от католической и православной. Особенно это хорошо видно у кальвинистских последователей – пуритан. Их аскеза носит рациональный характер в отличие от монашеской аскезы, например, католиков. Цель протестантской аскезы не бессмысленное истязание плоти во время служения в монастырях, а создание условий для продуктивной жизни. «Вопреки многим распространенным представлениям целью аскезы было создать условия для деятельной, осмысленной, светлой жизни; ее настоятельной задачей — уничтожить непосредственное чувственное наслаждение жизнью; ее главным средством — упорядочить образ жизни своих адептов»[11], – пишет Вебер.
Идея аскезы, как средства достижения потустороннего блаженства, оказала большое влияние на повседневную практику. Пытаясь его достичь, верующие протестанты истязали себя производительной работой, отвергая при этом возможность полноценно пользоваться её результатами. То, что кому-то кажется парадоксом, имеет вполне очевидное объяснение. Религиозный аскетизм протестантам запрещал получать удовольствие от жизни, кроме удовольствия служить Богу, при этом заставлял упорно и плодотворно работать. В этом кроется иррациональное стремление к наживе, несмотря на понимание, что нею нельзя будет воспользоваться.
Наиболее последовательное обоснование концепции профессионального призвания через аскезу дает английский пуританизм. Как пример Вебер приводит работы Ричарда Бакстера идеолога пуританства. «Все основное произведение Бакстера пронизывает настойчивая, подчас едва ли не страстная проповедь упорного, постоянного физического или умственного труда. В этом обнаруживается влияние двух мотивов. Прежде всего труд издавна считался испытанным аскетическим средством: в качестве такового он с давних пор высоко ценился церковью Запада в отличие не только от Востока, но и от большинства монашеских уставов всего мира. Именно труд служит специфической превентивной мерой против всех тех — достаточно серьезных — искушений, которые пуританизм объединяет понятием «unclean life»(нечистая жизнь А.С.)» [11]. Труд рассматривается, как средство воспитания, средство наказания, что в конце концов выливается в то, что он ощущается не как средство получения достатка, а как самоцель. При этом осуждается не только наслаждение богатством, но даже успокоенность и удовлетворение достигнутым. Бездействие, наслаждение процессом существования расценивается как ослабление стремления к «святой жизни», лишь деятельность «служит приумножению славы Господней.Следовательно, главным и самым тяжелым грехом является бесполезная трата времени» [11]. «Время – деньги», – говорит Франклин, тратить его впустую непросто совершенно недопустимо, но аморально. Даже созерцание жизни, что вполне приветствуется на Востоке, у пуритан менее угодно Богу, чем активное выполнение своего профессионального долга.
Средневековая аскеза хоть и выходила за стены монастырей, но она не была массовой. Протестанты, через исполнение профессионального долга, как призвания, распространили аскезу на все общество. Теперь жизнь каждого верующего человека должна была нести печать аскетизма и главной его составляющей должен быть труд, как превентивная мера от всех искушений. Он у протестантов применяется вместо монашеских молитв и бдений. «Нежелание работать служит симптомом отсутствия благодати» [11].
В противовес утверждениям Фомы Аквинского, который считал, что труд есть всего лишь средство поддержания жизни и если у человека есть возможность, он может жить не работая, у пуритан любое богатство не освобождает от обязанности трудиться. Сама богоизбранность воплощается в профессиональной добросовестности, поэтому кто не работает, тот и не ест, кем бы по положению он ни был.
Труд не только является обязанностью, но каждый человек должен выбирать наиболее доходный путь в своей профессии иначе он препятствует божественной цели своего призвания. «Если Бог указует вам этот путь, следуя которому вы можете без ущерба для души своей и не вредя другим, законным способом заработать больше, чем на каком-либо ином пути, и вы отвергаете это и избираете менее доходный путь, то вы тем самым препятствуете осуществлению одной из целей вашего призвания (calling), вы отказываетесь быть управляющим (steward) Бога и принимать дары его для того, чтобы иметь возможность употребить их на благо Ему, когда Он того пожелает. Не для утех плоти и грешных радостей, но для Бога следует вам трудиться и богатеть[11]. Богатство порицается лишь потому, что оно таит в себе «искушения предаться лени, бездеятельности и грешным мирским наслаждениям, а стремление к богатству — лишь в том случае, если оно вызвано надеждой на беззаботную и веселую жизнь». [11]
Желание быть бедным воспринимается равносильно желанию быть больным. Богатство похвально, потому что этим вы восхваляете Бога, но нажитые деньги можно тратить только на богоугодное дело, то есть опять на профессию. Предаваться удовольствиям в принципе не возбраняется, но на них деньги тратить нельзя, они все должны быть только бесплатными. Заработанные деньги должны стать средством улучшения профессиональной деятельности, поэтому «нормальный» капиталист прибыль должен тратить не на комфорт, роскошь, удовольствия, а для наращивания капитала. Именно религиозные препятствия в потреблении нажитого богатства служили основной причиной накопления первичных капиталов. Протестантская этика требовала инвестирования именно в производство, а не в землю или в замки, как это делали до этого аристократы. «Аскеза требовала от богатых людей не умерщвления плоти, а такого употребления богатства, которое служило бы необходимым и практически полезным целям»[11].
Но бережливость и прилежность в конечном итоге привели к наращиванию богатств, а вместе с этим у предпринимателей выросли «гордыня и страсти, любовь к плотским мирским утехам и высокомерие». Религия сохранила лишь форму, но потеряла свой дух. С ростом богатств стал реальным упадок религиозной морали. «…расцвет чисто религиозного энтузиазма был уже позади, когда судорожные попытки обрести царство Божье постепенно растворялись в трезвой профессиональной добродетели и корни религиозного чувства постепенно отмирали, уступая место утилитарной посюсторонности…»[11].
Протестантская религия сделала переворот в душах людей, её аскеза, следование профессиональному призванию сделали легитимным неравное распределение земных благ. Ведь в ней искали свою избранность не только предприниматели-капиталисты, но и наемные рабочие. Религиозная аскеза предоставляла в распоряжение капиталиста «трезвых, добросовестных, чрезвычайно трудолюбивых рабочих, рассматривавших свою деятельность как угодную Богу цель жизни»[11]. Это произошло потому, что для рабочего отношение к труду, как призванию стало таким же распространенным, как для капиталиста отношение к наживе.
Аскеза создавала спокойную уверенность в том, что экономическое неравенство дело богоугодное, как и то, что спасутся в потустороннем мире не все, а лишь немногие. Последовательно утверждается мнение, что добросовестная работа даже при самой низкой оплате дело богоугодное. Что делать, если судьба не представила других возможностей, надо с ней смириться.
Религиозная аскеза не просто легализовала неравное распределение результатов труда, она фактически объявила эксплуатацию нормой, а стремление к наживе признала человеческим призванием.
Из труда необходимого во имя прославления Бога, постепенно выросла страсть к наживе, к увеличению капиталов. Первоначально иррациональная она постепенно трансформировалась в абсолютно рациональное чувство. Для приращения капитала, увеличения прибыли, предприниматель должен стимулировать увеличение потребления, без этого в данной экономической системе ему не обойтись. Страсть к наживе у многих членов общества трансформировалась в страсть к потреблению. Предприниматели и их наемные работники уже спокойно, без стеснения пользуются плодами своих трудов, неважно касается ли это необходимого или удовольствий не относящихся к таковым.
Конкуренцию и связанный с ней эгоизм, без которых немыслимо капиталистическое производство, посредством религиозных идей в обществе стали оправдывать, как чувства сопутствующие праведному труду. Если человек неустанно трудится, пытается заработать как можно больше денег, то это очень хорошо, даже если ним движет эгоизм, гордыня и прочие подобные чувства недопустимые протестантской этикой.
Мораль, названная Вебером «Дух капитализма», выросла из стремления к спасению души, в ней осталось не так много от той первоначальной протестантской аскезы, но преемственность существует и это наглядно показал великий немецкий социолог своей работой «Протестантская этика и дух капитализма». Эта работа показательна и навевает мысли, что в будущем не исключены попытки прогнозировать, каким может быть «дух» последующих экономических отношений, ведь очевидно, что он формируются уже сейчас.
Вебер внес свой вклад и в анализ еще, как минимум двух элементов справедливости: насилия и власти. Своей работой «Политика, как призвание и профессия» он тонко поставил вопрос о легитимности насилия, который был всегда очень актуальным применительно к справедливости.
Государство, без которого пока мы не представляем организованной жизни людей, всегда с древних времен применяло насилие. Вебер приводит слова Троцкого: «Всякое государство основано на насилии». И хотя насилие является не единственным средством влияния государства на человека, без него оно не существует. Вебер ставит вопрос: «Насколько легитимно государственное насилие с этической точки зрения, почему мы подчиняемся ему?»
По его мнению, наше подчинение насилию государства произрастает из трех источников: во-первых, из чувства поддержки традиции потому, что так было всегда, во-вторых потому, что нам нравится харизма лидера и в-третьих, потому, что каждому из нас кажется, что должна существовать легальная система наказаний, легальная систем принуждения, иначе этот мир рассыпится и наступит хаос. Это объяснимые и отнюдь не иррациональные чувства, но одновременно с этим мы всячески противимся государственному насилию над собой. Где граница допустимости? Вебер пишет: «Ни одна этика в мире не обходит тот факт, что достижение “хороших” целей во множестве случаев связано с необходимостью смириться и с использованием нравственно сомнительных или по меньшей мере опасных средств, и с возможностью или даже вероятностью скверных побочных следствий; и ни одна этика в мире не может сказать: когда и в каком объеме этически положительная цель “освящает” этически опасные средства и побочные следствия»[17].
Процитированную мысль можно рассмотреть с точки зрения векторности движения к справедливости. Государство по своей сути – придуманный людьми механизм соблюдения справедливости, какое определение справедливости, какова мораль такое и государство. Трудно найти приемлемую границу, тот приемлемый баланс плохих дел во имя хороших результатов, Но эти границы фактически существуют на каждом историческом отрезке, в каждом конкретном социуме. Их приемлемость – положение относительное, но рассматривая уровень государственного насилия можно заметить определенное соответствие между ним и господствующей моралью. Чем выше уровень свобод, чем больше ценится личность и её права, тем ниже уровень насилия государства, тем дальше отодвигаются границы «приемлемого» насилия. Кроме того изменяется структура этого насилия, в общем объеме процент физического становится всё меньше, его заменяет насилие моральное, которое старается скрыть свою сущность и приносит совершенно другой характер страданий, всё дальше удаляющий нас от животного мира.
Это не выводы Вебера, он только поставил вопрос о легитимности насилия, соотношении допустимого насилия и целей которые ставит перед собой государство. Собственно работа посвящена чистоте профессии политика и вопросы насилия рассматриваются именно в этой связи. Вебер с сожалением констатирует: «Кто ищет спасения своей души и других душ, тот ищет его не на пути политики, которая имеет совершенно иные задачи — такие, которые можно разрешить только при помощи насилия»[12]. Справедливость, государство, власть и политика это звенья одной цепи и мысли Вебера дали дальнейшую пищу для размышлений о причинах и границах легитимного насилия, то есть для дальнейших изменений в определении справедливости.
§ 18 ООН, проблема межгосударственного насилия и прав человека
В Новом времени границы легитимности государственного насилия постоянно сужаются. В абсолютном большинстве государств отошли в прошлое телесные наказания, тем более не применяются, как легитимные наказания отсечения рук, носов, языков. Многие государства отменили или ввели мораторий на смертную казнь, а там где этого не сделали, изменились способы лишения человека жизни. Приведение в исполнение смертного приговора стараются сделать с меньшей жестокостью, практически не применяется повешение, а отсечение головы считается средневековым предрассудком. Смертельная инъекция, газ, электрический ток, в крайнем случае, расстрел наиболее распространенные способы казни. Человеку стараются причинить минимум физических страданий, главное наказание – это лишение личности возможности существования в обществе.
Насилие из государственной политики постепенно уходит, это касается не только внутренней, но и внешней политики. Возможности его проявления у государственных служащих становятся все более узкими. Древнеримский стражник, заколовший слишком надоевшего ему нищего, вряд ли бы понес, какое-либо наказание, даже полицейский самого цивилизованного государства Европы из девятнадцатого века мог совершенно спокойно избить горожанина, а тем более малоимущего. Государственный чиновник XVI-XVII века в Московии при желании мог не только нанести физический ущерб любому мещанину, тем более крестьянину, но и лишить его жизни без всякого суда. Препятствием для этого могло быть лишь имущественное право, то есть если крестьянин был крепостным и являлся чьей-то собственностью. Такие же примеры можно приводить из разных стран вне зависимости от того на каком континенте они были расположены.
Ситуация изменилась коренным образом в последние сто пятьдесят – двести лет. Сегодня представители государства, даже имеющие особые права, например полицейские, могут нанести ущерб здоровью гражданина только в том случае, если у них есть веские основания считать, что тот представляет опасность для самого полицейского или для окружающих. Но и в этом случае, если ущерб будет нанесен или не дай бог наступит смерть, полицейскому придется долго и упорно доказывать, что он был прав и опасность действительно была реальной. Такая ситуация стала «должным» не сразу и не везде. В Североамериканских штатах более двухсот лет назад жители, спасаясь от преступности, выбирали себе шерифов, которые имели специальные обязанности и права в борьбе с преступниками. Однако эти суровые люди со звездами на груди уже не имели возможности действовать безнаказанно и беззаконно, легитимность их насилия была строго ограничена, хотя их не всегда можно назвать государственными служащими, скорее людьми на службе обществу. Насилие государства стало в основном направленным против асоциальных элементов, это в первую очередь касается физического насилия. Мы постоянно вспоминали о нем при рассмотрении разных эпох, например об отношении к пыткам и теперь можно сказать, что в историческом контексте отношение к насилию изменялось в строну сужения сферы его справедливого применения.
Моральное насилие не было заметным в Древности и Средневековье потому, что влияние такого рода осуществляется не просто против человека или гражданина, а против личности, что согласитесь не всегда одно и то же. До Нового времени очень немногие могли осознавать себя личностями, основой этого было и правовое, и экономическое бесправие, а также низкий уровень образования и соответственно информированности. Большинство населения не считали ограничения в свободе выбора, свободе передвижения, свободе слова моральным насилием, теперь в цивилизованных странах всё это именно так и называется. Сегодня уже ведутся споры, считать ли, например налогообложение, моральным насилием или как относиться к привилегиям, которые люди получают за деньги. Совсем недавно, сто или двести лет назад такие вопросы даже в голову не приходили и это также является подтверждением об изменениях в конструкции справедливости такого важного элемента, как насилие.
В XIX веке война еще не рассматривалась, как абсолютное зло, вопрос стоял лишь: можно ли её избежать или нет. Первая мировая война вызвала шок в обществе, миллионы погибших и покалеченных произвели впечатление. Хотя правильные выводы сделаны были далеко не всеми, но 10 января 1920 года состоялось первое заседание Лиги Наций. Это была попытка создания международной организации, которая бы предотвращала войны между странами. Никогда раньше человечество не ставило перед собой задачу искоренения войн, прекращения насилия в межгосударственных отношениях. Четыре десятка стран со всех пяти континентов стали основателями Лиги Наций, еще более двух десятков присоединились в двадцатых и тридцатых годах.
Особого успеха в практическом решении международных проблем эта организация не имела, но сама идея разоружения, неприменения военной силы в межгосударственных спорах, создание системы коллективной безопасности была колоссальным продвижением по пути конструирования справедливости Нового времени. Однако Первая Великая война не стала достаточным предупреждением, поэтому к Лиге Наций не присоединились США, а Советскую Россию поначалу туда вообще не хотели принимать. Может быть и правильно, потому что после её принятия в 1934 году через пять лет Союз советских республик был исключен из состава организации за агрессию против другого члена Лиги Наций – Финляндии. В состав ЛН никогда не входила Германия, а её союзники Япония и Италия хоть и входили в число основателей, но затем после применения к ним санкций со стороны Лиги за агрессию в Манчжурии и Абиссинии, обе вышли из её состава.
Фактически с началом Второй мировой войны Лига Наций перестала существовать, хотя формально о её роспуске было объявлено только в 1946 году. Ей на смену пришла Организация Объединенных Наций, официально существующая с 24 октября 1945 года. Эта организация существенно отличается от Лиги Наций, хотя бы тем, что страны основатели, а их было пятьдесят, представляли 80% населения планеты. В их число вошли все наиболее мощные на тот момент в экономическом и военном смысле государства. ООН несравненно более стабильная и авторитетная организация, чем Лига Наций об этом говорит, хотя бы тот факт, что за все время существования ни одна страна не вышла из её состава, ни по собственной инициативе, ни по причине исключения, а её состав из пятидесяти вырос до ста девяносто трех стран. Изменения происходили только в связи с распадом отдельных государств, как например СССР, Югославии, Чехословакии либо в связи с объединением, как например, в случае с Германской Демократической Республикой.
Принятие Устава ООН, который является обязательным для выполнения всеми странами участницами, положило начало новой конструкции справедливости в области международного права. Насилие в международных отношениях ставилось практически вне закона. Угроза силой или её применение допускаются только в двух случаях: во-первых, при индивидуальной или коллективной самообороне, во-вторых, по решению Совета Безопасности ООН. Легитимность насилия государств сильно ограничили. Любая агрессия стала для мирового сообщества несправедливой. Война стала просто неэтичной, совершенно нежелательным явлением в дипломатии.
С 1945 года, когда Сталин 9 августа официально объявил войну Японии, формально было объявлено только четыре войны, да и то все они были локальными и краткосрочными, а некоторые еще и с анекдотическим налетом. Например, «футбольная» война Сальвадора с Гондурасом, которая была объявлена после столкновений болельщиков в отборочных матчах к Чемпионату мира по футболу 1970 года в Мексике или война объявленная Угандой Соединенным Штатам Америки. США «не заметили» этого объявления, во всяком случае, никакой реакции не последовало, тогда диктатор Уганды Иди Амин объявил себя победителем. Все остальные войны не только формально не были объявлены, но и носили любое другое название – конфликт, помощь братскому народу, миротворческая операция, принуждение к миру, но не война.
Вышесказанное является подтверждением того, что в международных отношениях насилие стало неприемлемо, хоть очень часто к этому относятся весьма формально, ищут обходные пути и оправдания. За семьдесят лет работы ООН произошло много кровопролитных военных конфликтов. Особенно масштабными оказались столкновения: в Корее 1950-53 годов, во Вьетнаме в 1957 – 1975 годах, арабо-изральский конфликт, длящийся с 1947 года и до сих пор не закончившийся, афганский и югославский конфликты, операция «Буря в пустыне» в Кувейте и конфликт 2003 года в Ираке, наконец АТО в Украине. И это только наиболее многочисленные и длительные боевые действия. Кроме этого произошло множество средних и мелких военных конфликтов особенно в странах Азии и Африки. ООН никогда не выпускала из поля зрения ни один из них. В некоторых случаях военные действия даже были санкционированы самим Советом Безопасности.
Далеко не всегда удавалось найти приемлемое для всех решение. Очень часто стороны искали оправдания своей агрессии, скрывали своё присутствие, называя своих военных, добровольцами, советниками, кем угодно, но не армией участвовавшей в боевых действиях, не стороной в конфликте. Теперь очень важно не показать себя агрессором, не нарушить Устав ООН. Важно хотя бы формально не переступать границы дозволенного правилами мирового сообщества, то есть даже фактические агрессоры вынуждены считаться с ними, они очень не хотят быть признанными формальными агрессорами.
Этот неоспоримый факт говорит о том, что несмотря на то, что фактически до сих пор в решении международных споров насилие применяется, оно выведено за рамки конструкции справедливости. Если страна признается всем международным сообществом агрессором, она автоматически становится изгоем, попадает в изоляцию, что негативно сказывается на её экономическом и политическом положении.
Особенно нагляден пример с Ираком во время «Войны в заливе». Уже в день своего нападения на Кувейт, Ирак фактически был признан агрессором. Совет Безопасности ООН принял резолюцию об осуждении вторжения с требованием немедленно вывести войска. Ирак проигнорировал её и аннексировал захваченные территории. В дальнейшем Совет Безопасности ООН двенадцать раз принимал новые резолюции для разрешения конфликта дипломатическим путем, но результат был неудовлетворительным. С августа по январь длилась оккупация Кувейта, наконец 29 ноября 1990 года была принята резолюция №678, которая разрешила Многонациональным силам ведение боевых действий. В январе-феврале 1991 года войска Ирака были разгромлены, а Кувейт освобожден.
Этот пример показателен тем, что все страны сообщества осудили агрессию Ирака. Даже близкий к распаду СССР поддержал силовые меры предложенные странами Запада. Так случалось крайне редко, обычно оценки насилия резко отличаются, то что странам одного полюса кажется неправомерным насилием, другими трактуется, как справедливое действие. Иногда отрицается сам факт насилия, иногда он трактуется как самооборона, защита жизни, чести, достоинства граждан, отдельной страны, региона или национальности. То есть конфликтующие стороны делают всё для того, чтобы хотя бы формально привести свои позиции к соответствию правилам Устава ООН, который стал важнейшим элементом конструкции справедливости Нового времени.
Но самый важный результат деятельности этой организации – успешное пресечение попыток развязать третью мировую войну. Особо следует отметить Карибский кризис в октябре 1962 года. Это событие было одновременно пиком угрозы насилием и окончательным осознанием невозможности дальнейшего применения принципа силы в решении глобальных международных конфликтов. Две супердержавы США и СССР, обладавшие невероятной ударной военной мощью, смогли разрешить свой спор без боевых действий, сугубо дипломатическими методами. Принцип военной силы окончательно был удален из конструкции справедливости, хотя гонку вооружений по инерции продолжали, но противостояние перешло больше в плоскость экономическую, что в конце концов и привело к распаду СССР.
Сегодня в обществе явно проявляется тенденция гипертрофирования опасности насилия. Даже местный конфликт, масштаб которого мал и охватывает только отдельный регион, рассматривается как угроза всей планете. Он уже видится не как метод урегулирования местной проблемы, а как потенциальная возможность его превращения в конфликт глобальный. Эти опасения обоснованны, чем выше уровень технологий, чем сложнее организационная структура общества, чем выше значение действий отдельной личности, тем неустойчивее мировая система.
Значение, ценность отдельной личности возросла невероятно, хотя в этом секторе справедливости до сих пор присутствует избирательность. Ежегодно многие миллионы людей погибают от голода, это происходит ежедневно, но почти не замечается «большим» обществом. Однако гибель одного или нескольких человек в результате теракта, авиа или автомобильной катастрофы может стать причиной бурного обсуждения в медиа ресурсах, горячего осуждения виновников и даже объявления траура. То есть осуждение насилия даже над одним человеком может приобрести всеобщий характер.
Видимо поэтому ООН занимается не только межгосударственными отношениями, эта организация, активно участвует в формировании и других элементов конструкции справедливости, которые касаются не только народов, но и отдельных личностей. Одним из самых важных документов ООН стала «Всеобщая декларация прав человека» принятая 10 декабря 1948 года. Первая статья этого документа начинается со слов: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах». Текст Декларации является первым глобальным определением прав человека. Основой этого планетарного документа стали исторические декларации отдельных стран, принятых ранее. Во-первых, это британский Билль о правах 1689 года, во-вторых, Декларация прав человека и гражданина принятая в 1789 году во Франции и наконец, Билль о правах США 1791 года. В этом также прослеживается векторность движения к справедливости – идеи прошлого совершенствуются и становятся достоянием не только отдельной страны, но и всего мира.
То, к чему так много веков стремились люди, получило планетарное признание. Правда в отличие от Устава ООН, который является обязательным для выполнения всеми странами участницами, положения Декларации носят характер рекомендательный, в ней всего лишь ставится цель, к которой стремится сообщество. Но в этом нет ничего страшного и окончательного. Например во Франции, в 1971 году, спустя почти двести лет после принятия «Декларации прав человека и гражданина», положения которой всё это время носили исключительно рекомендательный характер, Конституционный совет республики признал её юридически обязательным документом. Теперь нарушение Декларации преследуется по закону, как нарушение главного закона страны – Конституции. Вероятно, пройдет время и права человека во всем мире будут не только продекларированы, но и защищены законодательно, векторность движения к справедливости это подтверждает.
Нет смысла приводить полный текст «Всеобщей Декларации прав человека», но обсудить отдельные статьи в контексте развития элементов конструкции справедливости необходимо. Мы рассматриваем их начиная с Древности, каждый элемент имеет свою историю и своеобразие. Вспомним древний Вавилон с его культом ненависти к чужестранцам, вообще к чужим, другим чем-либо отличающимся людям, это считалось вполне справедливым. В Декларации ООН указывается, что каждый человек должен обладать правами «без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения» [14]. Кроме этого не может быть «никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны» [14]. Сразу видно насколько далеко мы ушли от справедливости вавилонян.
На страницах этой книги мы постоянно вспоминали о рабстве, о насилии, пытках, жестоком обращении с людьми. Благодаря «Декларации» теперь всё это в цивилизованном обществе не допускается, не может быть справедливым.
Сколько копий сломано при обсуждении исключительности отдельных личностей. Монархи, аристократы, просто богатые люди на протяжении многих веков они обладали эксклюзивным правом, как считалось абсолютно справедливым, быть над законом или вне его. В «Декларации» теперь четко определено: «Все люди равны перед законом…», все без исключения, никакие имущественные, сословные и прочие привилегии существовать для закона не должны. В ней закреплена презумпция невиновности, что долгое время не принималось обществом. Теперь человек невиновен «пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства»[14]. Совсем недавно, каких-то сто пятьдесят – двести лет назад, пытать подозреваемого было справедливо, вырвав признание под пыткой, следователь чувствовал себя совершенно честным человеком.
Свобода личности в «Декларации» обрела осязаемые рамки. Никому не позволено вмешиваться в личную и семейную жизнь, охраняется неприкосновенность жилища и тайна корреспонденции. «Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии…»[14], «на свободу убеждений и на свободное выражение их» [14]. Декларируются равные возможности в управлении государством, как в качестве избирателя, так и в качестве государственного служащего.
«Декларация прав человека» не имеет исключений, об этом мы уже говорили выше. В ней все люди равны вне зависимости от пола, национальности и прочих факторов, но многим этот, без сомнения прекрасный, документ не кажется совершенным с точки зрения справедливости. Он декларирует право на труд, образование, на жизненный уровень «который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи», существование достойное человека, но он не декларирует социального равенства. В этом и состоит главный спор двух ветвей конструкции справедливости – либеральной и коммунистической.
Само определение социального равенства или неравенств не имеет всеми принятой единообразной трактовки. Основные версии различают социальное неравенство по принципу дохода, престижа, власти, образования. Эти признаки иногда объединяются и появляется понятие общественного статуса, который вероятно более полно может характеризовать социальную ступень, на которой находится человек. Статус это объединенное понятие, в которое входят все признаки, как бы в суммарном варианте. У кого-то выше богатство, как например, у продавцов наркотиков, но ниже престиж и часто образование. У них много денег, но мало формальной власти. У чиновника много формальной и фактической власти, но не высок интеллектуальный и образовательный уровень по сравнению с научным деятелем или представителем какого-то вида искусства. Математически точно вычислить сравнительное содержание статуса отдельных личностей сложно, если вообще возможно. Результат будет зависеть от метода подсчета, а значит от субъективного мнения взявшегося за него человека.
Но чаще всего такие подсчеты просто не требуются так, как разница в доходах, престиже, образовании и уровне власти очень велики, поэтому сомнения в социальном неравенстве возникают редко и обычно только при сравнении несравнимых параметров, например, доход и образование или интеллект, престиж и власть. Социальная справедливость неразрывно связана с социальным неравенством, это одна из самых больных тем современных идеологов, об этом мы детально поговорим в разделе, посвященном абсолютной справедливости, борьбе с релятивизмом в этой области.
§ 19 Эрих Фромм, насколько необходима свобода
Социальное равенство на сегодняшний день для нашего общества недостижимая цель, во всяком случае пока, если его вообще можно достигнуть. Но главный вопрос следующего параграфа не в этом, а в другом – действительно ли так нужны каждому человеку свобода и равенство, может быть без них можно обойтись? Можно ли построить абсолютно справедливое общество, где понятие «должного» будет включать в себя для каких-то категорий людей отсутствие свободы, неравенство?
Исторический опыт показывает нам, что не только отдельные личности, но и целые народы жертвуют своей свободой, во имя неких целей, которые правители обычно называют «великими». Эти люди сами добровольно подчиняют себя каким-то идеям, духовным лидерам. Почему это происходило, происходит и вероятно будет еще происходить? Такой вопрос задал себе выдающийся философ, социолог, психолог и психоаналитик Эрих Фромм. Каковы мотивы этих людей, почему они жертвуют своей свободой? Ответ на этот вопрос он попытался дать в своих книгах «Бегство от свободы» и «Человек для самого себя». Первая из них была написана, можно сказать, по горячим следам и на основе личного опыта. После торжества нацизма, прихода к власти Гитлера Фромм эмигрировал из Германии сначала в Швейцарию, затем в США. Книга увидел свет в 1941 году. Массовое помешательство, связанное с национал-социалистическими идеями, стало одним из важных поводов для её написания, но Фромм конечно не имел в виду только Германию и нацизм, он охватывал проблему гораздо шире.
Как практикующий психоаналитик он прекрасно знал, что в период взросления, человек проходит через различные психологические состояния, связанные с разными уровнями свободы. В детстве это абсолютно зависимое существо, которое ощущает себя единым со своей матерью, со своим окружением. В процессе роста, развития человека нарастает индивидуализация – «процесс усиления и развития его личности, его собственного «я». Казалось бы, что плохого может принести рост личности? Но в природе всё непросто, в ходе этого процесса «утрачивается идентичность с остальными людьми, ребенок отделяется от них», нарастает одиночество. «Возникает стремление отказаться от своей индивидуальности, побороть чувство одиночества и беспомощности, а для этого - слиться с окружающим миром, раствориться в нем[51]».
Первичные узы, уготованные человеку природой, мешают ему стать свободной личностью, но при этом дают уверенность и отсутствие одиночества. Усиление индивидуализации это усиление изоляции, каждый человек сам делает свой выбор. С одной стороны ему хочется свободы, но с другой он стремится к определенности своего положения, чего свобода ему дать не может. Определенность – это защита, это уверенность, это надежность. Нахождение своего места в системе, даже в системе основанной на принуждении – это определенность.
Рациональная связь с окружающим миром для человека может быть основана лишь на активной солидарности с другими людьми, на спонтанной деятельности, «которые снова соединяют его с миром, но уже не первичными узами, а как свободного и независимого индивида.[51]». «Однако если экономические, социальные и политические условия, от которых зависит весь процесс индивидуализации человека, не могут стать основой для такой позитивной реализации личности, но в то же время люди утрачивают первичные связи, дававшие им ощущение уверенности, то такой разрыв превращает свободу в невыносимое бремя…[51]», – пишет Фромм в книге «Бегство от свободы»
Именно это и происходит в Новом времени. Патриархальная зависимость Средневековья сменяется капиталистической свободой, которая характеризуется отрывом от тех ячеек общества, которые были ведущими во время предыдущей фазы. Патриархальная семья, феодальная зависимость крестьян, цеховые правила для ремесленников и другие подобные элементы для большого количества людей всё это остается в прошлом. Уже нет старых якорей, которые раньше удерживали их в бурном потоке жизни, но человек не может существовать без них, ему нужна безопасная гавань. Потеря первичных связей и при этом невозможность стать независимой личностью приводит к превращению свободы, как говорил Фромм, в «невыносимое бремя». Свобода всегда двойственна, с одной стороны это эйфория независимости, с другой – ужас изоляции, который приносит чувство «ничтожности и бессилия».
В Средневековье человек не имел свободы, но ощущал уверенность в завтрашнем дне. «Личность отождествлялась с ее ролью в обществе; это был крестьянин, ремесленник или рыцарь, но не индивид, который по своему выбору занимается тем или иным делом. Социальный строй рассматривался как естественный порядок, и, будучи определенной частью этого порядка, человек ощущал уверенность, чувство принадлежности к нему»[51]. Человек был пожизненно встроен в этот порядок и никаких изменений по определению, быть уже не могло. Крестьянин не мог стать купцом, купец – аристократом, никто не мог сменить свою роль в обществе. То что нам сегодня кажется безысходностью на самом деле многим внушало уверенность в своем положении. Навсегда заведенный порядок успокаивал, никаких резких изменений в табели о рангах не происходило. Человек «низкого» происхождения не мог даже разбогатеть. Если ему в руки по счастливой случайности попадало богатство, то при той социальной структуре он не мог его даже защитить. Для того чтобы у него появилась возможность стать богатым, он должен был сменить свой социальный статус, а это было практически невозможно.
Чаще всего он был гарантирован и от нищеты, если не происходило каких-нибудь глобальных катаклизмов, а он например, имел статус ремесленника. Цех защищал его интересы, он только должен был добросовестно работать, выполнять цеховые правила и это обеспечивало ему привычный уровень жизни. При цеховой структуревнутренняя конкуренция не поощрялась, цену на продукцию устанавливал не сам производитель, а руководство цеха. Она для всех была одинакова и каждый имел равные возможности продать свою продукцию. Выпрыгнуть из этой колеи, было практически невозможно и это способствовало стабильности. Каждый человек знал, что он будет делать завтра, послезавтра, через год и даже в конце жизни. Он знал, что он в будущем будет есть, какую носить одежду, в какую церковь ходить и даже, как он умрет. У человека не было возможностей выбора и от этого не было сомнений, не было страха перед будущим. Общество не лишало индивида свободы, потому что индивида еще не было, так считал Эрих Фромм.
Но постепенно с зарождением мануфактур, основ капиталистического производства этот порядок начал нарушаться. Впервые в Италии начиная с XII века стали стираться кастовые различия, «богатство становилось важнее родовитости». Процесс шел медленно, до XV века накопление капитала не являлось определяющей тенденцией, но постепенно она нарастает, приходит эпоха Возрождения. Культура этой эпохи не была культурой крестьян или мелких ремесленников, она вскармливалась новыми капиталистами и аристократами, которые сами становились частью капиталистической экономики. Именно в этой среде развивается индивидуальность, это происходит благодаря новой экономической деятельности, которая дает невиданное до сих пор богатство и чувство свободы.
Эти люди пытаются дистанцировать себя от общества, частью которого они еще совсем недавно себя ощущали. «Солидарность с собратьями, или по крайней мере с членами своего класса, сменилась циничным обособлением; другие люди рассматривались как "объекты" использования и манипуляций либо безжалостно уничтожались, если это способствовало достижению собственных целей. Индивид был охвачен страстным эгоцентризмом, ненасытной жаждой богатства и власти»[51]. Власть, богатство, новое мышление, а вместе с ним и свободу получала верхушка общества. Но одновременно люди из этой категории становились так же, как все более одинокими, они также теряли уверенность в завтрашнем дне, потому что исчезала связь со старой системой координат. Они пытались обрести уверенность благодаря получению новых уровней власти, всё большего богатства, славы. «Простой народ, которому не досталось ни нового богатства, ни новой власти, превратился в безликую массу, потерявшую уверенность своего прежнего положения; этой массе льстили или угрожали, но власть имущие всегда манипулировали ею и эксплуатировали ее»[51].
Весь мир перешел в новую реальность, средневековая социальная структура исчезла, а с нею та определенность, которая внушала уверенность. Богатые хоть и оказались в лучшем положении, но их внутреннее психологическое состояние мало чем отличалось от состояния простого народа. Их положение тоже перестало быть устойчивым, им теперь уже нельзя было почивать на лаврах своих богатых предков, богатстве нажитом отцами и дедами. Даже за сохранение statusquoнадо было бороться не на жизнь, а на смерть.«Все человеческие отношения были отравлены этой смертельной борьбой за сохранение власти и богатства»[51].
В этих условиях свобода, которая теоретически стала возможной для многих, стала приобретать особые черты. При этом необходимо заметить, что в эпоху Возрождения процесс монополизации еще только начинался, мелкий производитель или купец были менее зависимы, более защищены и уверенны в своём будущем. Но этот процесс нарастал, а вместе с ним нарастал процесс роста изолированности и сомнений отдельных личностей. Политическая независимость на фоне усиления социальной неуверенности породила несколько вариантов поведения личности: отчужденность, протест, желание освободиться от свободы.
Тем самым появление настоящей независимой личности породило стремление тех, кто был не способен стать нею, тех кто отказывался от борьбы за свою индивидуальность, к избавлению от свободы, к её сублимации. Несмотря на это, на фоне массового бегства от неё, как это ни парадоксально, возникают всё более активные движения за свободу и равенство. Переход к капиталистической экономической системе ознаменовался целой чередой революций, в каждой из которых лозунги свободы, независимости, равенства и братства присутствовали в той или иной интерпретации.Это было обусловлено невероятной активностью того небольшого количества людей, которые стали или стремились стать настоящими личностями.
Несмотря на неуверенность и стремление спрятаться в ячейках системы, даже если это система была основана на принуждении, человек всё равно пытался обрести потерянную уверенность, которая для него несравненно более комфортна и привлекательна в условиях свободного развития, чем в условиях зависимости в рамках жесткой системы. Это просто два разных вида уверенности. Фромм в своей книге «Человек для самого себя», которая вышла в 1947 году и фактически является продолжением «Бегства от свободы», пишет:«Одно из характерных свойств человеческого ума в том, что, сталкиваясь с противоречием, он не может оставаться пассивным. Ум приходит в движение с целью разрешить противоречие. Всем своим прогрессом человек обязан этому факту» [52].
То есть все революции были результатом стремления человека избавиться от противоречия. С одной стороны по мере своего взросления, развития человек стремиться обрести всё большую индивидуальность, которая без свободы не может быть реализована, с другой – общественная система не дает этой возможности, пытается лишить личность самобытности, увеличить однообразие человеческой массы, сделать её серой. Ситуация еще больше запутывается и осложняется потому, что человек делающий выбор между свободой и зависимостью, не выбирает из плохого и хорошего. Он выбирает меньшее из зол. Психологический дискомфорт возникает, как в первом случае, так и во втором. Человек примиряется с чем либо, со свободой или с её отсутствием, но он не обретает полного покоя. Все конструкции справедливости не дают такой гарантии и с этим нужно смириться, как с природной данностью, но уровень психологической удовлетворенности у свободного человека потенциально более высок, чем у человека зависимого, поэтому его стремление к свободе естественно.
Равенство же является необходимым элементом системы обеспечения свободы. Мы уже рассматривали ранее идеи философов о том, что человек не может быть свободен в несвободном обществе. Неравенство это и есть элемент несвободы, неравенство порождает зависимость, невозможность свободно действовать, принимать решения.
Векторность развития конструкций справедливости подтверждается изменением отношения к равенству. Фромм указывает, что для разных уровней равенства нужен разный уровень технологий. Противоречия неравенства на определенных этапах развития общества невозможно преодолеть. «Институт рабства в Древней Греции может служить примером условно неразрешимого противоречия, разрешение которого оказалось достигнуто только в более поздний период истории, когда была создана материальная основа для равенства людей» [52]. Таких примеров можно привести множество, но главный их смысл в том, что эти противоречия относительны, они разрешимы в принципе, но для их решения требуются определенные условия и усилия человека. «Современное противоречие между избытком технических средств материального обеспечения и невозможностью использовать их исключительно для мира и благополучия людей — разрешимо; это противоречие не необходимое, а обусловленное недостатком у человека мужества и мудрости» [52], – пишет Фромм.
Можно утверждать, что уровень технологий и уровень конструкции справедливости находятся в прямой зависимости, причем они связаны взаимно. То есть переход на более высокий уровень морали зависит от применяемых технологий, но и достижения в области технологий, зависят от уровня этических норм принятых в обществе. Доступ к высоким достижениям может тормозиться, потому что мораль общества еще не может обеспечить эффективное и безопасное внедрение в жизнь новых технологий. В дело вступает закон техно-гуманитарного баланса, описанный профессором Назаретяном. Однако нет четкого правила первичности этики или технологий. Обычно технологии опережают этику, но отдельные этические воззрения выдающихся личностей иногда на эпохи опережают технологии, как тут не вспомнить Этьена де Ла Боэси.
Подводя итоги этого параграфа, следует сказать, что стремление к свободе и равенству является естественной необходимостью всех людей. Далеко не каждый на деле реализует его, но это не лишает человека стремлений. Часто они перерастают в тайные желания, мечты иногда переходят на подсознательный уровень и возникают явно только во время особых личностных кризисов. Бегство от свободы никогда не бывает успешным, оно в любом случае проявляется в болезнях нравственных и физических отдельных личностей и целых сообществ.
§ 20 Джон Ролз, теория справедливости
Исследования представлений о справедливости велись в XX веке, продолжаются и в XXI, её конструкции изменяются, совершенствуются. Заметной, можно даже сказать фундаментальной работой в этой сфере стал труд Джона Ролза (JohnRowls) с амбициозным названием «Теория справедливости». Книга увидела свет в 1971 году, но остается актуальной и в двадцать первом веке.
Несмотря на то, что в 1991 году Советский Союз, как главный источник коммунистической справедливости исчез с карты мира, тем не менее, в этой сфере деление на две ветви – либеральную и коммунистическую продолжает существовать. «Теория справедливости» Ролза – образец конструкции либерального направления.
В своих исследованиях он опирается на труды в первую очередь Бентама и Милля, хотя формально отвергает их принцип утилитарности в подходах к определению справедливости. Для него индивидуальные права и свободы образуют справедливую конструкцию общества apriori, без ссылки на их полезность. Здесь проявляется скорее влияние Канта и его нравственного императива.
В основе теории Ролза лежат два принципа, первый принцип касается свободы, а второй должен регулировать существующие неравенства. Это деление напоминает две справедливости Аристотеля: уравнительную и распределительную. Первый принцип дает всем без исключения все возможные виды свободы, то есть уравнивает, второй – говорит о том, что блага не достанутся всем, а будут распределяться, причем распределяться неравномерно, но при этом неравномерность должна компенсироваться общественной системой. Формулировки принципов рождаются не сразу, Ролз как бы подводит читателя к ним, уточняя в процессе, что он имел в виду, излагая каждый принцип.
«Первый принцип. Каждый индивид должен обладать равным правом в отношении наиболее общей системы равных основных свобод, совместимой с подобными системами свобод для всех остальных людей.
Второй принцип. Социальные и экономические неравенства должны быть организованы таким образом, что они одновременно
(а) ведут к наибольшей выгоде наименее преуспевших, в соответствии с принципом справедливых сбережений, и
(б) делают открытыми для всех должности и положения в условиях честного равенства возможностей». [44]
Как видно из изложенных Ролзом принципов, социальное и экономическое неравенство в его конструкции справедливости предусматривается, что отличает её от концепции коммунистической, но в то же время в конструкции Ролза присутствует попытка сгладить эти неравенства. То, что работа написана в период расцвета капитализма видно по тому, что в ней основное место отведено принципам распределения материальных благ, всё остальное – престиж, слава, власть – являются лишь следствием этого распределения. Не мораль, как полная система этических правил, а только один её элемент – честность, принята Ролзом за основу справедливости. «Здравый смысл склонен предполагать, что доход, богатство и вообще хорошие вещи в жизни должны распределяться в соответствии с моральными заслугами. Справедливость — это счастье в соответствии с добродетелью…. Справедливость как честность отвергает эту концепцию. Такой принцип не был бы выбран в исходном положении», [44] – утверждает Ролз, то есть он изначально отвергает первенство морали в формировании его конструкции справедливости.
Так как главная идея теории Ролза – это справедливое распределение материальных благ, то заявление: «Результирующее долевое распределение не коррелирует с моральной значимостью, так как изначальное наделение природными задатками и случайности их развития и культивирования в раннем возрасте с моральной точки зрения произвольны», не выглядит странным. [44]. Однако в ракурсе рассмотрения вектора справедливости, оно несколько выпадает из целого ряда утверждений его предшественников, что справедливость – это соответствие «должному», которое интерпретируется, как мораль присущая данному обществу.
Именно распределение довлеет над всеми рассуждениями теории, в ней не оцениваются справедливость поступков, как таковых, справедливость власти, справедливость обретения славы и престижа. Мораль уходит на второй план. Ролз утверждает: «Таким образом, понятие моральной ценности вторично по отношению к понятиям правильности и справедливости и не играет роли в содержательном определении долевого распределения»[44]. Принцип различия, по его мнению, должен компенсировать все ущербы, полученные от несоответствия действий отдельных индивидов моральным принципам. Идея состоит в том, чтобы попытаться исправить в сторону равенства случайные предпочтения.
Ролз вводит термин «незаслуженные неравенства», которые должны быть возмещены «и так как неравенства происхождения и природных дарований незаслуженны, эти неравенства должны быть как-то компенсированы»[44]. Из контекста вполне можно предположить, что существуют и заслуженные неравенства. Механизм компенсации, конечно, не предусматривает прямого перераспределения доходов, речь идет о социальных выплатах, дополнительных расходах на образование и прочих непрямых дотациях для наименее успешных людей.
Но главным оправданием неравенства должен служить принцип, соответствующий стратегии «maximin» из теории игр, которая предполагает максимальный уровень минимального результата, то есть в рамках теории Ролза – это максимизация минимального уровня жизни малоуспешного населения. Максимальный уровень наиболее успешных слоев должен расти лишь до той степени, пока он вызывает рост уровня малоуспешных слоев. Такое развитие событий Ролз считает справедливым. Это отражено в первой части второго принципа: «Социальные и экономические неравенства должны быть организованы таким образом, что они … ведут к наибольшей выгоде наименее преуспевших…»[44].
Ролз обосновывает это мнением своих коллег: «Кейнс, например, замечает, что громадного накопления капитала перед первой мировой войной никогда не могло бы произойти в обществе, в котором богатство было бы поделено поровну. … Именно это неравенство в распределении богатства и сделало возможным быстрое наращивание капитала и более или менее устойчивое улучшение в уровне жизни для всех. Именно этот факт, по мнению Кейнса, и является главным оправданием капиталистической системы. Если бы богатые тратили свое новое богатство на себя, такой режим был бы отвергнут как невыносимый» [44].
Ролз рассматривает человеческое общество «в качестве кооперативного предприятия во имя взаимной выгоды» [44]. Определяя это, он сам опровергает отсутствие идей утилитаризма в своей теории, то есть приоритета полезности. Фактически, по его мнению, если увеличение богатства успешных полезно менее успешным – это справедливо.
Отводя большую часть своей теории проблеме распределения благ, компенсации неравенств, Ролз упорно подчеркивает приоритет свободы, «основные свободы могут быть ограничены только во имя самой свободы» [44], видимо забывая, что экономическая зависимость, социальное неравенство и есть разновидность отсутствия свободы. Правда он тут же оговаривается и добавляет, что меньшая свобода должна быть приемлемой для граждан. Тем самым, по его мнению, для разных индивидуумов справедливо существование разных уровней свободы: меньшей и большей. Критерием приемлемости видимо должны стать те компенсации, которые они получат взамен полной свободы. Ролз не декларирует всеобщую свободу для каждого, он говорит лишь о равном праве доступа к системе «основных свобод», то есть не всех, а только основных и только доступа, а не обеспечения.
Ролзу, как стороннику капиталистической морали, в которой главной является прибыль, видимо трудно представить, что в глазах отдельных, а может быть многих членов общества, материальное удовлетворение не может заменить морального. Он не ведет рассуждений на тему: компенсация неравенств это есть настоящее равенство или его иллюзия?
Кроме первого правила приоритета свободы, Ролз вводит второе правило приоритета: «справедливости над эффективностью и благосостоянием». Говоря другими словами, никакая эффективность бизнеса и удовлетворение от получения высокого благосостояния не должна стоять впереди справедливости. Это еще одна попытка компенсировать социальное и экономическое неравенство, но уже в этической плоскости. Согласно второму правилу приоритета – достижение высокого благосостояния нечестным путем не может быть справедливым.
Рассуждения о пригодности теории справедливости или точнее рассуждения о сфере её применения выливаются в замечание, что в том случае, если бы все неравенства были устранены, то возможности наименее успешных слоев общества были бы еще больше ограничены. Ролз резюмирует, что «условий полной реализации справедливости не существует»[44].
Невозможно абсолютно справедливо распределить все блага в конкретном месте, в конкретной ситуации, для конкретных людей. Это еще связано с тем, что процесс совершенствования конструкции справедливости крайне сложен и длителен. Все эти расчеты компенсаций неравенств длятся во времени на протяжении многих поколений, перетекают из одного времени в другое. «Но мы должны как можно на более долгое время откладывать день расплаты и пытаться организовывать общество таким образом, чтобы этот день никогда не наступил» [44], – считает Ролз. Должно существовать перманентное перетекание компенсаций с определенной надеждой, что будущие компенсации более справедливо скорректируют прошлые неравные условия, возможности, доходы и прочее. Для того, чтобы это как-то работало Ролз применяет принцип сбережения, который подразумевает обязанность, каждого живущего поколения перед последующим, сберегать для него жизненные ресурсы.
«Теория справедливости» Джона Ролза, несмотря на свою явную капиталистическую, либеральную сущность, очень точно вписывается в гипотезу о векторности движения к справедливости. Ролз одним из первых среди либералов признал то, что с неравенством нужно как-то бороться, фактически он признал его аморальность. Само признание аморальности неравенства можно считать большим достижением. Тем самым он подтвердил, что слово равенство более приемлемо в конструкции справедливости, чем все его антонимы, хотя конечно ясно, что в рамках существующей экономической модели достичь социального и экономического равенства невозможно.
Ролз пытается решить вопрос, хотя бы частичного преодоления неравенства не в моральной плоскости, а в сфере материальной. Однако эта попытка окончательно показывает, что подмена справедливости в виде «должного», как набора определенных материальных благ, не имеет перспектив так, как изменяет само понятие справедливости, проистекающее из совести, из личности, из поступков носящих не экономическую, а этическую сущность.
Регулятором в конструкции справедливости Джона Ролза должны быть свободные действия индивидуумов в соответствии с собственными представлениями о благе, а государство должно быть лишь нейтральным арбитром в их спорах. Индивиды естественно имеют разные представления о благе, но государство не должно осуществлять никакого давления на них, навязывать свою систему ценностей. Это должно обеспечивать либеральный принцип веротерпимости, свободу слова, свободу выбора цели. Тем самым основой конструкции справедливости Джона Ролза есть свобода действия индивида, последствия этих действий могут быть неравнозначными, но это будет справедливо, если будет соблюдаться правило «maximin».
«Теория справедливости» Джона Ролза весьма противоречивый документ, но так всегда происходит, когда пытаются совместить несовместимое. Признание необходимости существования неравенства и в тоже время декларация свобод, порождает несовершенство концепций. Неравенство всегда порождает зависимость, то есть фактическую несвободу. Несовместимость двух главный принципов, на которых базируется сущность справедливости, является камнем преткновения, главной причиной споров.
§ 21 Коммунистическая мораль двадцатого века
Следующая глава перед переходом к обсуждению абсолютной справедливости будет посвящена моральным аспектам коммунистической конструкции. После развала СССР и всей социалистической системы нападки на коммунистическую идеологию развернулись весьма широко, особенно в странах, где она была на протяжении десятилетий господствующей. В этой главе я попытаюсь беспристрастно описать, во-первых, как выглядела на деле коммунистическая мораль, на какие дела плохие или хорошие она воодушевляла, как нею прикрывались. Во-вторых, я попытаюсь подробно описать нормы морали, которые формально декларировались в идеологических документах, таких, как например, «Моральный кодекс строителя коммунизма». В-третьих, я попытаюсь показать, что привлекало в коммунистической морали миллионы людей на планете, почему коммунистические лидеры, запятнавшие себя многими преступлениями, продержались так долго?
Конечно, нужно отметить релятивность названия «коммунистическая» справедливость. Мне оно показалось наиболее подходящим, хотя не исключено, что названия «социалистическая» или справедливость «левого толка» могут показаться более точными. Это название ситуативно, так сложилось исторически, хотя достаточно вспомнить, как называлась партия Ленина, сотворившая Октябрьский коммунистический переворот – Российская социал-демократическая партия (большевиков), только после переворота она была переименована в партию коммунистическую. Название, конечно, играет роль, но в этой работе под общее название «коммунистической справедливости» попадают и многие социалисты, анархисты, социал-демократы, все те, кто считал несправедливым существование социального неравенства и частной собственности.
Коммунизм в головах многих людей на планете Земля ассоциируется с преступлениями, массовым обманом. Разница между декларациями и фактическими действиями, несомненно огромна, но такое положение присуще не только коммунистической морали, оно весьма часто встречается в других этических системах, как светских, так и религиозных. Преступления и массовый обман совершались и к сожалению совершаются до сих пор и в системах с либеральной концепцией справедливости, тому есть множество свидетельств. Очень важно беспристрастно осветить особенности конструкции справедливости, названной в этой работе коммунистической.
Чтобы обеспечить более плавный переход к этике коммунистической системы XX века мы вернемся в век XIX и напомним основные положения морали коммунистов тех времен. Конструкция коммунистической справедливости родилась на фоне борьбы с частной собственностью и социальным неравенством, которая стала весьма популярной в связи активизацией капиталистических отношений. Социалисты-утописты, Бабёф, Вейтлинг и многие другие выступали за установление социальной справедливости, всеобщего равенства на основе отказа от частной собственности, которую, по их мнению, необходимо заменить собственностью общественной. Методы у всех были разные, но цели похожие – искоренение социального и экономического неравенства, получение всеми без исключения свободы, в самом широком смысле этого слова.
Маркс и Энгельс поддержали идею всеобщего равенства с помощью уничтожения частной собственности. У всех адептов коммунистической конструкции справедливости её основой была идея борьбы против классов владеющих собственностью, а следовательно и властью. Бескомпромиссная борьба предполагала справедливость избирательную, недаром у этих идеологов часто применялось слово диктатура, то есть преобладание одной группы над другими или власть одного, хоть и революционного диктатора.
До Ленина коммунисты в большой степени были теоретиками. Борьбу они вести пытались, но масштабы и её интенсивность были сравнительно небольшими. Они еще не знали, что многое, из предлагаемого их идеологией утопично и на практике реализовано быть не может.
Военный переворот 1917 года, сделанный коммунистами в России, открыл новый этап коммунистической конструкции справедливости – практический. Сразу же после переворота корректировке подверглись многие положения концепции справедливости из девятнадцатого века. Для удержания государственной власти в своих руках пришлось забыть о принципах всеобщего равенства и свободы. Очень кстати пришлись идеи Бабёфа и Вейтлинга о переходном периоде, в течение которого должна работать справедливость особого типа, в данном случае диктатура пролетариата. Практика оказалась несравненно жестче теории, из неё в основном использовались постулаты о непримиримой борьбе с имущими классами, необходимости жесткой государственной политики в переходный период. После разрушения отношений частной собственности, новое коммунистическое общество не возникло, принцип «дальше всё пойдет само собой» не работал.
Как когда-то предлагал Вейтлинг, коммунисты стали отнимать у враждебных классов «все средства, которыми они могли бы вредить нам». Восторжествовала классовая, избирательная справедливость. По мере роста бюрократической системы социалистического государства, её избирательность стала больше напоминать произвол средневековой или даже древней деспотии.
Как и в более ранние периоды проявилась закономерность при переходе к новой фазе эволюции, человечество, во всяком случае, одна шестая его часть, откатилась в понимании справедливости далеко назад. Как мы помним аналогичная ситуация наблюдалась и на переходе к Средневековью и к Новому времени, в течение достаточного длительного времени наблюдался возврат в эволюционном развитии.
То, от чего предостерегал Вильгельм Вейтлинг – «кровавая баня» для врагов, лишение их свободы – произошло фактически. Коммунистический режим сначала Советской России, а затем СССР вернулся в Средневековье. Людей убивали без суда, пытали, фактически превращали в рабов, осуждая на десятилетия трудовых лагерей. Времена террора длились не один десяток лет, но это не могло продолжаться бесконечно. Обман становился слишком заметным, разница между декларируемыми принципам и практикой становилась разительной. Недовольство в среде народа нарастало и постепенно нравы властителей коммунистического государства смягчились. В СССР даже есть специфическое определение этого периода «Оттепель». На её фоне, на фоне осуждения тех бесчеловечных поступков, которые в Новом времени совершались по нормам средневековой морали появился документ «Моральный кодекс строителя коммунизма».
Конечно, о коммунистической морали говорил и раньше. Лозунги: вся власть народу, за всеобщее равенство, свободу народу – были популярными в революционной среде, но строгого, законченного свода моральных принципов до начала шестидесятых годов не было. Он появился в 1961 году, как раз во времена «оттепели», перед очередным съездом коммунистической партии. К тому времени в СССР на протяжении уже пяти лет продолжалась компания по развенчиванию аморальных действий предыдущего руководства. Осуждался культ личности лидера компартии, декларировалось коллективное управление страной, где даже лидер должен был чувствовать своё равенство с народом, прорастали ростки свободы слова.
Однако требовалось более ясно очертить нравственные принципы сообщества людей, которое собиралось построить коммунизм. Это было необходимостью, потому что несмотря на критику прежней жизни, моральные нормы реально действующие в обществе мало чем отличались от тех времен, которые критиковались. Насилия стало меньше, но элементарные права, свобода и равенство для рядового советского гражданина оставались призраком. Так называемое колхозное крестьянство – целый класс общества, к тому же самый многочисленный, не имел элементарного права свободы передвижения даже внутри государства, свободного выезда за границу не имел вообще никто. Фактически не существовало свободы слова, была жесткая односторонняя партийная цензура. Не было свободы совести, все религии ограничивались и преследовались, насильственно насаждался атеизм. Партийная номенклатура имела необоснованные привилегии, что выражалось в различных спецобслуживаниях, спецпайках, неприкасаемости перед судебной властью. Большинство партийных лидеров, виновных в смерти тысяч людей так и не были осуждены, а тех, которые получили судебные приговоры, судили собственно не за содеянные злодеяния, а за подозрение в нелояльности коммунистическому режиму.
Хотя экономическое расслоение внутри социума было не таким сильным, как в странах с капиталистической системой, неравенство фактически было нормой. Лидеры государства и компартии становились чуть ли не небожителями, они решали судьбы целых народов, но не по закону, а по только им известным принципам справедливости. Такие действия обычно были покрыты завесой тайны, неправомерность оправдывалась необходимостью секретности.
В СССР даже личная свобода не была гарантирована. При всей видимости законности человека могли лишить её только лишь за несогласие с господствующей идеологией. Свобода не была защищена правом, а регулировалась партийными функционерами. Фактически не существовало презумпции невиновности, еще до вынесения решения суда подсудимый осуждался обществом, судебное решение уже выглядело, как формальность. Нередки были случаи принятия решений о лишении свободы, расстрелах в несудебном порядке, то есть даже без формальной процедуры обвинения и защиты.
Такая ситуация сложилась к началу шестидесятых годов. Осенью 1961 года должен был состояться XXII съезд КПСС. В глазах руководителей компартии, он виделся переломным. На нем принималась новая программа, в которой ставилась четкая цель – построение коммунизма. На съезде Никита Хрущев, лидер советских коммунистов, в своем выступлении заявил, что к 1980 году коммунизм в СССР будет построен.
Почти никто из советских людей в принципе не был против построения коммунизма, но как это может произойти, если в обществе до сих пор с моралью творится не понятно что? После почти полувекового периода революционной избирательной справедливости сами коммунисты плохо понимали, каким этическим принципам должна быть подчинена их жизнь, не говоря о том, что все видели, что в обществе ведется политика двойных стандартов. Каждый ощущал на себе множество негативных факторов жизни в социалистической стране, но даже обычные, нормальные моральные принципы не были определены. Религиозная мораль была отвергнута, а новая вроде бы существовала, но не была прописана, тем более не приобрела формы традиций. Обычно моральные принципы подразумевались, о них догадывались и этим очень умело пользовались партийные функционеры, трактуя их так, как им было выгодно.
Не было определено, продолжается ли переходной период к коммунизму или он уже закончился? Какую мораль нужно применять, диктаторскую революционную, где справедливость всегда за пролетариатом, чтобы он не творил или наступает время равенства? Если я гражданин, обладаю ли я набором прав и свобод?
Попыткой как-то объяснить это и был «Моральный кодекс строителя коммунизма», который стал составной частью Устава КПСС. Вот, что из этого получилось:
1. Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма.
2. Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест.
3. Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.
4. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов.
5. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного.
6. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат.
7. Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни.
8. Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.
9. Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству.
10. Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни.
11. Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов.
12. Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.
Следует сразу заметить, что название принято очень продуманное. Мораль изложенная в документе, согласно его наименованию, имеет отношение не ко всем гражданам, а только к определенной группе избранных – к строителям коммунизма, то есть фактически подчеркивалось продолжение избирательной справедливости. Также нужно отметить особый стиль документа, хотя сравнение с религиозными заповедями было бы некорректным, внутренний идеологический, почти религиозный настрой присутствует. В «Кодексе» речь почти не идет об элементарных моральных принципах, я бы сказал общечеловеческих, акцент поставлен на любви и преданности коммунизму, его атрибутам: коллективизму, общественно-полезному труду, интернационализму. Несмотря на то, что декларируется гуманизм, честность и правдивость, ни разу не употреблены слова свобода и равенство их вряд ли можно заменить словами дружба и братство. В тоже время употребляется слово «непримиримость», что вряд ли приемлемо для моральных принципов так, как подразумевает возможное насилие. Насилие же в двадцатом веке было изгнано из большинства конструкций справедливости цивилизованных обществ.
Несмотря на показную «причесанность» фраз «Кодекса» в нем нет тех норм, которые были присущи более ранним коммунистам, особенно коммунистам-анархистам: социальное равенство, свобода личности, отсутствие любого насилия. В нем ни слова не сказано о государстве, о правомерности или неправомерности государственного насилия, ничего не сказано о человеке, который будет жить при коммунизме. То есть в «Кодексе», по сути, излагались моральные принципы человека из переходного периода, который пока он строит коммунизм, освобожден от ряда общечеловеческих этических правил. Например, он может применять насилие, особенно в отношении врагов коммунизма. В этой концепции, хоть и не впрямую применяется тот же принцип избирательной справедливости. «Кодекс» написан только для своих, в нем нет всеобщности. Все, кто не попадает под определение борца за коммунизм, не могут рассчитывать на этичное отношение строителя коммунизма.
Возможно, я кое-что придумываю, но это позволяет мне сам документ своей размытостью и неопределенностью. Сравнивать его с десятью заповедями христианской религии невозможно, хотя бы потому, что в заповедях присутствует конкретизация общечеловеческих норм: не убий, не укради, не прелюбодействуй, не произноси ложного свидетельства на ближнего своего.
Но в то время на религиозные каноны в советской стране никто не ссылался, очень модными и правильными были ссылки на вождя всемирной революции Владимира Ленина. Несомненно, авторы «Кодекса» сверяли свои слова с его трудами. Нам также следует ознакомиться с его воззрениями на нравственность. Например, в своей знаменитой речи на III съезде комсомола в 1920 году Ленин говорил: «Нравственность — это то, что служит разрушению старого эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся вокруг пролетариата, созидающего новое общество коммунистов». Краткое, но абсолютно понятное определение, в нем нет: не убий, не укради, в нем есть только, уничтожь эксплуататора и построй новое общество без него. Морально всё, что способствует уничтожению старого строя.
Ленин был, конечно, не единственным теоретиком морали коммунистов, на этом поприще трудилось множество людей. Основным теоретическим положением служило не только то, что коммунистическая мораль направлена наразрушение эксплуататорского строя, но и то, что она является выражением жизненных интересов трудящихся людей, термин «трудящийся» обычно понимался слишком буквально – человек, который что-то делает руками, физически. Работники умственного труда под это определение, в глазах пролетариата, обычно не попадали, тем более таковым не мог быть капиталист, управляющий производством, или торговец.
Коммунистическая мораль, по мнению теоретиков ленинизма, произошла из моральных норм выработанных до этого тысячелетиями, но не в среде аристократической элиты, богачей, а в среде бедного крестьянства и рабочих, то есть как раз тех трудящихся о которых мы упоминали выше. Важнейшим признаком этой морали стало изменение её мотивов, например в отличие от религиозной, «не призрачное спасение после смерти, а интересы построения коммунизма». Коммунистическая мораль «учит людей находить свое счастье и видеть смысл жизни в борьбе за коммунизм».
Теоретики коммунистической конструкции справедливости рьяно критиковали так называемую буржуазную мораль, для нашей классификации её можно включить в состав либеральной конструкции справедливости. Буржуазная мораль провозглашала идеалы справедливости, свободы, равенства и братства людей, но в тоже время подчеркивала святость частной собственности. Тем самым она существенно сужала границы декларируемых идеалов и санкционировала социальное неравенство, которое выливалось в эксплуатацию людей. Коммунистов не устраивало в этой морали то, что она построена на принципах индивидуализма и эгоизма, то есть каждый сам за себя. Они предлагали иной принцип – принцип коллективизма, каждый за всех, все за одного.
После крушения СССР и социалистической системы теоретики либеральной морали утверждали, что коммунистическая конструкция справедливости была на самом деле феноменом квазиэтики, потому что её мораль так и не стала в реальности сутью индивидуального и общественного бытия, то есть её на самом деле не было, были только декларации. С этим трудно согласиться, потому что известно множество примеров людей, которые ради этой «квазиэтики» рисковали, а часто отдавали свою жизнь. Среди них были не только фанатики, с промытыми советской пропагандой мозгами, а часто встречались высокие интеллектуалы. Достаточно вспомнить физика-ядерщика Клауса Фукса, который добровольно, по собственной инициативе, без материальной заинтересованности, с огромным риском для жизни передавал данные по разработке атомного оружия. Его моральные качества не подлежат сомнению. Он пользовался большим уважением коллег по «Манхеттенскому проекту» и не только, как профессионал. Как говорил участник работы в Лос-Аламосе профессор Николас Куртис: «За всё время, что мы провели вместе, он представлялся мне человеком кристальной честности».
Можно вспомнить знаменитую «кембриджскую пятерку»: Гай Бёрджес, Ким Филби, Дональн Маклин, Энтони Блант, Джон Кернкросс. Все они были аристократами с глубокими ментальными корнями, но все они добровольно на протяжении десятилетий помогали коммунистической разведке. Основным мотивом их шпионской деятельности было несогласие с моралью либеральной и симпатия к морали коммунистической. Таких людей, которые симпатизировали коммунистам в большей или меньшей степени внутри СССР и за его пределами были миллионы. Что это было, самообман или элементарное стремление к справедливости?
В Советском Союзе, несмотря на колоссальные репрессии, иногда доходящие до геноцида, жили миллионы людей, которых идея подлинной свободы и социального равенства заставляла мириться с несправедливостью партийной бюрократии. Идея абсолютного равенства была настолько привлекательной, что эти люди во имя неё жертвовали собственной индивидуальностью, уничтожали в себе личность. Вероятно, это в большой степени связано с темой бегства от свободы, которую так прекрасно изложил Эрих Фромм, но далеко не всегда эта психологическая концепция имела место. Я не буду упоминать таких коммунистических лидеров, как Ленин, Сталин или Фидель Кастро им можно инкриминировать жажду власти, но было много других коммунистов, которые её не жаждали, но и не бежали от свободы, были настоящими личностями и при этом страстно боролись за торжество коммунистической морали, как пример можно назвать Эрнесто Че Гевара. Настоящая свобода и равенство, причем без всяких компенсаций, какпропагандировал Джон Ролз, вот что привлекало и привлекает людей в коммунистической модели справедливости.
Необходимо отметить, что вся критика этой концепции при ближайшем рассмотрении относится лишь к конструкции справедливости переходного периода, то есть избирательной справедливости. То, что называется советским социализмом или коммунистическим государством на самом деле таковым не являлось, оно лишь повторяло конструкцию раннего государственного утопического коммунизма. Важной ошибкой руководителей государства строителей коммунизма, во всяком случае, они себя считали таковыми, что по меткому определению Бердяева они рассматривали настоящее, как средство, а будущее, как цель. Поэтому всё, что творилось в настоящем, было для них неважным, беды, кровь, несправедливость ложились на алтарь будущего, справедливого коммунизма.
Естественно эта концепция имела множество изъянов, хотя бы потому что она избирательная, она не применима ко всем обществу в целом. Истинная суть коммунистической конструкции справедливости изложена в коротком лозунге: «Каждому по потребностям, от каждого по способностям». В ней ничего не говорится о свободе, она принимается apriori, но в ней декларируется полное экономическое равенство, которое должно стать основой для равенства социального.
Мы уже упоминали выше, что именно собственность, точнее неравномерность её распределения, является одной из главных причин социального неравенства, хотя есть и другие. Возникает вопрос, насколько утопичен главный лозунг коммунизма? Реализовать его можно лишь в обществе полного изобилия, но как раз в этом пункте у советского варианта социалистическогоспособа производства на лицо особые проблемы.
Социалистическое производство, основанное на общественной форме собственности, в том виде, в котором она была в СССР – командное, бюрократическое, избыточно централизованное оказалось неспособным создать не то что общество материального изобилия, но даже общество удовлетворяющее фундаментальные потребности человека. При таком способе производства переходной период может длиться вечно, но низкая производительность труда никогда не позволит достичь такого уровня, чтобы удовлетворить потребности каждого.
С этим спорить трудно, если вообще возможно, но есть капиталистическая система, которая по утверждениям многих экономистов, уже сейчас потенциально может удовлетворить все рациональные потребности всего населения Земли. Конечно ключевые слова в последнем предложении «потенциально» и «рациональные». Система имеет возможности это сделать, но не имеет стимула, кроме того рациональные потребности в корне отличаются от максимальных, которые несомненно присутствуют в среде верхнего класса капиталистического общества. Что вообще стоит за понятием «рациональные потребности»?
За последние двести лет сущность слова рациональный сильно изменилась. Его первоначальное значение – «разумный» (по латыни ratio– разум) превратилось в целесообразный, обоснованный, прагматичный иногда даже экономный, что несколько уводит нас от первоисточника, поэтому интерпретация термина «рациональные потребности» осложняется.
В коммунистической концепции рациональные потребности – это потребности разумные, то есть в них не включены желания обеспечивающие престиж, славу, преобладание над другими личностями. Это потребности, позволяющие свободное развитие личности, но не дающие никаких экономических рычагов для возвышения в социуме, то есть каждый занимает своё место на социальной лестнице согласно исключительно личных качеств, интеллектуальных способностей, трудолюбия и воспитания.
Необходимо отметить, что в коммунистической конструкции справедливости социальная лестница всё таки существует, хотя формально её отрицают. Она подразумевается в самом лозунге: «от каждого по способностям», рейтинг способностей невозможно отменить, а следовательно изначально люди имеют разные стартовые позиции, что не может не отразиться на их дальнейшей деятельности и соответственно месте в социальной иерархии.
Неудачу в реализации концепции коммунистической справедливости в странах советского лагеря, можно объяснить тезисом подсказанным Эрихом Фроммом о том, что каждому уровню справедливости, должен соответствовать необходимый уровень технологий и организации общества. Если технологически в отдельных отраслях и только в некоторые периоды советский лагерь, еще мог что-то предложить, то организационно общество было отброшено в средневековье, если не в древность. Усиленно культивировавшийся коллективизм, жестко подавлял личность, уничтожал инициативу, убивал внутреннее разнообразие социума.
Такое положение очень напоминает древнегреческую демократию, где гражданин имел права только на этапе выборов, первичного принятия решений, а затем должен был всецело подчиняться обществу, которое фактически было представлено только выбранными правителями. После выборов реально он терял все права личности, становился беззащитным перед силой государства и толпы.
Лидер страны советского лагеря фактически наделялся полномочиями средневекового абсолютного монарха, а партийные функционеры на местах получали власть сопоставимую с властью феодала. Конфликт между государствами с либеральной и коммунистической справедливостью принял характер конфликта эпох, а не конфликта идеологий.
Это однако не принижает некоторые особенности коммунистической конструкции справедливости. Подтверждением этому служит появление теорий конвергенции, которые фактически призывали к сближению концепций справедливости. Первым её выдвинул великий русско-американский социолог и культуролог Питирим Александрович Сорокин в 1944 году в своей книге «Россия и Соединенные штаты». Его поддержали многие экономисты и социологи, либерального толка. Особенно известны работы по этой теме Збигнева Бжезинского. Со стороны советских теоретиков такого энтузиазма не было, наоборот наблюдалась жесткая непримиримость.
Теория конвергенции не является законченной и строгой экономической или социальной теорией. Разные авторы приводят разные аргументы для сближения и дальнейшего слияния экономических и идеологических систем. Главной идеей является несовершенство обоих систем при том, что в каждой из них есть элементы несомненно полезные. Разумная селекция таких элементов помогла бы создать единую более совершенную конструкцию.
Теория была особенно популярна в периоды, когда напряжение между двумя лагерями спадало: во второй половине Второй мировой войны, во время проведения политики «разрядки» в семидесятые годы двадцатого века. С развалом СССР она вроде бы потеряла свою актуальность, хотя в рамках либеральной концепции справедливости многие проблемы не решены. Проблемы очень острые, которые вероятно уже в наступившем столетии, станут краеугольным камнем при решении задачи выживания всей цивилизации.
Это проблемы новых более высоких уровней свободы, прав и равенства, без выдвижения на которые будет проблематично сохранить жизнь на планете Земля, но это уже вопросы следующей главы «Абсолютная справедливость».
§ 22 Абсолютная справедливость
Споры об абсолютности и относительности справедливости ведутся не первое столетие. Гипотеза векторности в развитии человеческого общества исходит из того, что существует релятивизм справедливости. Формирование «должного» происходит в социуме в соответствии с его развитием в самом широком смысле этого слова. Оно всегда косвенно или напрямую зависит от достигнутых технологий, уровня науки, культуры, структурной организации, методов управления социумом. «Установление» в обществе этических норм принимает различные формы: от законов и официальных деклараций, до поддержки неформальных традиций имеющихся в отдельных ограниченных сообществах на основе опыта предыдущих поколений. Точно описать в каком состоянии находится конструкция справедливости в конкретное время и в конкретном месте нельзя. Можно представить лишь некую обобщенную картину. Она будет состоять из множества компонентов: морали, которую декларируют формально, из этических норм, которые применяются на практике, из мнений которые преобладают в обществе и мнений отдельных людей, причем между точками зрения общества и отдельных личностей иногда лежит настоящая пропасть. Когда Аристотель писал, что женщина может, хотя бы в каких-то случаях быть равной мужчине, его мнение разделяли не очень многие. Когда Монтень выражал своё мнение о воспитании детей, он был почти в одиночестве, большинство людей предпочитали розгу и не думали о том, чтобы учитывать желания своих отпрысков. Так происходит постоянно, мыслители опережают свое время не только в физике или химии, в философии справедливости это происходит точно также. Однако именно такие люди начинают формировать будущую конструкцию справедливости, они проектируют будущее «должное». Рядом с ними существует множество ретроградов, некоторые из которых до сих пор считают, что рабство вполне справедливо, а без насилия нельзя прожить. Весь этот комплекс мнений, устоявшихся традиций и представляет собой реальную конструкцию справедливости того или иного времени.
На примере многих веков мы проследили, что «должное», которое есть ключевым в определении справедливости, изменялось вместе с развитием человеческого общества. Человек прошел путь от справедливости рабства до права на свободу для всех без исключения людей, от полубожественной исключительности аристократии до всеобщего политического равенства, от признания врагом любого чужеземца до признания единства и равенства всех рас и народов. Мораль современного общества радикально отличается от морали Средневековья и Древности.
На протяжении нескольких тысяч лет, с эпохи Осевого времени, прослеживается тенденция увеличения свобод, расширения прав, равенств и возможностей, но где предел этому и существует ли он? Существует ли некий абсолют справедливости, к которому в конечном итоге придет или не придет человечество? Имеет ли вектор движения к справедливости конечную величину?
Вероятно нет и тому есть множество причин. Одна из них выглядит формально, но существенно влияет на возможность определения понятия абсолютной справедливости, это – неоднозначность термина «свобода». Свобода это одновременно и идея, и возможность, и право. Если придерживаться гипотезы векторности движения к справедливости, то состоянию абсолютной справедливости должно соответствовать состояние максимальной свободы для всех, но что же такое максимальная свобода? Неограниченные права, возможность действовать без ограничений или максимизация идеи? Наверное, всё перечисленное вместе, но в рамках абсолютной справедливости человек в принципе не может быть максимально свободен. Он не может иметь неограниченных прав, а тем более действовать без ограничений, так как не должен пересекать границы свобод других личностей, в противном случае чья-то свобода будет ущемлена, а это уже не будет соответствовать положению об абсолютной справедливости. Она не может быть выборочной, она должна быть всеобщей.
Кроме этого существует целый ряд других ограничений. Еще у Канта определяется, что человек apriori не может быть абсолютно свободным, так как вынужден действовать с учетом событий, которые уже произошли, о чем также нам напоминает современная синергетика, рассматривая будущее, настоящее и прошлое, как единую конструкцию. Мы уже не можем совершить какие-то действия, потому что в прошлом уже случилось нечто, что препятствует этому.
Кроме того человек вынужден действовать в рамках природных ограничений, наконец в рамках ограничений цивилизационных. Перспектива получения полного господства над природой, во-первых, призрачна, а во-вторых, она нивелируется практически пропорциональным увеличением зависимости от цивилизации. Ограничения, накладываемые природой и цивилизацией, мы подробно рассмотрим при исследовании вектора удаления человечества от естества. Пока лишь констатируем, что свобода в трактовке её, как многогранного понятия не может быть неограниченной.
Максимизация возможна лишь в понимании свободы, как идеи. Бердяев считал, что абсолютная справедливость состоит в свободе индивида стать личностью. Для этого человеку не нужно обладать неограниченной свободой, это скорее кооперация с другими людьми, консенсус между личностью и обществом. Но это мнение лишь одного из философов, оно весьма интересно, но вряд ли может удовлетворить всех ищущих ответы на поставленный вопрос.
При обсуждении абсолютной справедливости остро встает вопрос объективности морали, если справедливость может быть абсолютной, то и этические правила ей соответствующие не должны быть субъективными. Этот вопрос предметно исследовал Эрих Фромм в работе «Человек для самого себя». Он утверждает, что термин «абсолютное» присущ теологии, а для гуманистической этики он совсем не подходит. Фромм предлагает другое решение: «Вначале давайте не забывать, что «объективно правильное» не идентично «абсолютному».[52]. По его мнению, мы должны найти понимание не абсолютной, но «объективно правильной» морали, она в свою очередь может быть и не застывшей, не абсолютной. Для того чтобы это сделать нужен научный подход. «Гуманистическая этика — это прикладная наука «искусства жить», основанная на теоретической «науке о человеке» [52]. Основой этой науки должно стать элементарное желание жить, которое природно присуще каждому человеку. Отсутствие такого желания – аномалия, его можно рассматривать как болезнь, как ненормальность.
Фромм утверждает, что объективность гуманистической этики состоит в том, что благом в ней является утверждение жизни. «Добродетель это ответственность за собственное существование» [52]. Жизнь объективна, следовательно мораль, построенная на сохранении жизни также объективна, хотя термин «сохранение жизни» и не в полной мере отвечает многогранному понятию справедливости, оно имеет более широкую смысловую нагрузку. Можно сослаться на определение Спинозы, который считал, что «сохранять существование означает стать тем, чем ты являешься потенциально». Определение своего потенциала, своей цели в жизни возможно лишь посредством усилий человеческого разума, тем самым сохранение существования тесно связано с сознанием человека. Американский философ Джон Дьюи утверждал, что «цель человеческой жизни … заключается в росте и развитии человека в границах его природы и жизнеустройства»[52]. Собрав эти мысли воедино, мы придадим термину «сохранение жизни» большую полноту, расширим его границы.
Но рассуждения Фромма, Спинозы и Дьюи не слишком приблизили нас к ответу на вопрос о пределе вектора движения к справедливости, существовании абсолютной справедливости. На основании их рассуждений можно лишь сказать, что она не может быть субъективной. Она всегда связана с объективным явлением бытия – жизнью и при её определении не должно быть релятивизма, что допускалось при определении конструкций справедливости для различных эпох. Так ли это и насколько это возможно в принципе?
Эрих Фромм считал, что каждый уровень справедливости соответствует определенному уровню технологий, развития науки, тем самым он подтверждал релятивность конструкций справедливости эпох, но сейчас мы рассматриваем абсолютную справедливость. Она по определению не может быть релятивной, она должна быть только объективной. Но тогда с точки зрения прогресса её существование – нонсенс, если человечество достигнет такого состояния оно должно перестать развиваться, потому что новый уровень технологий должен породить новую конструкцию справедливости, а она уже абсолютна, то есть достигла своего предела. Исходя из этого, можно сделать вывод, что вектор движения к справедливости не может иметь предела или нужно признать конечность существования цивилизации.
Возможен ли вариант, когда справедливость, достигшая своего абсолюта, не будет связана с уровнем развития общества? Это противоречит нашему опыту, но возможно мы ошибаемся, потому что мыслим с позиций сегодняшнего дня, а позиции будущего нам неизвестны и возможно будут иными. Нам до сих пор достоверно не известен механизм развития человеческого общества, мы пока только догадываемся, что его суть заключена в элементарном поддержании жизни. Как поддерживать жизнь, если мир достигнет абсолюта справедливости?
Эти рассуждения теряют смысл, если установить, что абсолют недостижим. В уравнении, где складываются свобода, равенство, права и возможности всех существующих людей при максимальных значениях этих элементов – решения нет, потому что они взаимозависимы и достаточно часто при увеличении одного компонента уменьшается другой.
Говоря об абсолютной справедливости необходимо не просто рассмотреть все её составляющие, но и их взаимосвязи, возможность их принципиального существования при определенных условиях. Например, абсолютное равенство, его можно обеспечить только при полной унификации личностей, что на практике невозможно по многим причинам. Во-первых, мы по природе своей очень отличаемся друг от друга и физиологически и психологически. Дело не только в том, что у нас разные отпечатки пальцев, разные узоры ушных раковин и прочие физиологические элементы, мы различны, как личности вследствие своих генетических особенностей, воспитания и прочих влияний природы и общества.
Как соблюсти справедливость в отношении множества таких разных людей? В этом вопросе есть системное противоречие,с одной стороны, согласно факту своего рождения, человек должен получить свою порцию справедливости – свободу, во-первых, личную и во-вторых, много других вторичных свобод, таких как свобода занимать различное положение в обществе, свобода экономическая, политическая, культурная, гражданская и пр. Взаимосвязь видов свобод очевидна, часто они просто неотделимы, например гражданская и политическая, тем не менее, важно отметить, что все вторичные свободы базируются на личной свободе. Невозможно свободно выражать свои мысли или быть экономически независимым, будучи зависимым лично, даже культурная свобода в этом случае будет ограничена. Эзоп был великим баснописцем и был рабом, но вряд ли последний факт не накладывал свою печать на его творчество.
С другой стороны, каждый человек с рождения несет свою порцию несправедливости – свою исключительность, именно эта эксклюзивность порождает природное неравенство. Она может быть выражена в превосходстве или наоборот, относительной слабости в том или ином аспекте: в имущественном или властном положении семьи, врожденных интеллектуальных способностях или напротив в умственной отсталости, болезни и бедности.
Следующую порцию справедливости человек должен получить за свою социальную деятельность, за свои заслуги перед обществом или отсутствие таковых, но эта справедливость должна опираться не только на свободу – справедливость, данную по рождению, но и на человеческую исключительность, которая по своей сути несправедлива, так как порождает неравенство.
Таков замкнутый круг, который как кажется, обрекает нас на вечные страдания. Однако при ближайшем рассмотрении наибольшее раздражение в обществе вызывали не биологические отличия людей и даже не личностные, а неравенства появившиеся в результате развития цивилизации. Человек разумный вероятно в большинстве случаев может смириться с теми отличиями, которые предлагает нам природа, но не может смириться с тем, что сделано самим человеком, с теми отношениями, с той несправедливостью, которая придумана обществом. В этом, по-видимому, кроется секрет конструкции высшей справедливости, чем она будет более естественна и объективна, тем больше она сможет претендовать на звание высшей.
Как обеспечить природность справедливости, если сама сущность понятий свобода и равенство антагонистична в принципе? Бердяев писал: «Свобода есть прежде всего право на неравенство. Равенство есть прежде всего посягательство на свободу, ограничение свободы»[8]. Это так, но также справедливо утверждение, что без равенства не может быть свободы. Неравенство порождает зависимость, которая сама по себе есть антипод свободы, она перерождается в превосходство, а в конечном итоге в господство, появление которого в корне противоречит свободе, потому что даже сам властвующий не способен быть свободным, чего уж там говорить о подвластных.
Но наш социум всегда был и будет неоднородным, в противном случае не будет самого человека. Общество всячески старается унифицировать личности, так легче управлять, но тотальной унификации всё равно не получается, а если это произойдет, то результатом будет гибель человека, как вида. Причина этого заключается в необходимости достаточного внутреннего разнообразия социума. Именно достаточное внутреннее разнообразие общества позволяет ему преодолевать возникающие кризисы, как эндогенные, так и экзогенные.
Абсолютное равенство противоречит основным принципам управления сложными системами, потому что почти все они основаны именно на разнообразии. Человеческое общество есть прекрасный пример именно такой огромной сложной самоорганизующейся системы. Оно не может существовать в состоянии хаоса, неуправляемость приводит к его гибели, я думаю нет потребности это доказывать.
Управление такой крупной, сложной и разнообразной системой, чтобы быть эффективным должно быть многоуровневым, в кибернетике это называется принципом иерархии управления. Нижние уровни должны отличаться высокой скоростью реакции, чем выше уровень, тем реакции медленнее, но они разнообразнее. По-другому и быть не может, потому что на высшие уровни приходит не просто больший объем, но и более разнообразная информация. На разных уровнях управления должны быть люди разной квалификации, чем выше уровень, тем требуется другая глубина анализа информации, тем выше сложность принимаемых решений, что конечно не может не накладывать отпечаток на их личности. Для соблюдения этого принципа обществу требуются люди с разными знаниями, с разными уровнями интеллекта. Можно, конечно, поставить академика включать и выключать станок, но достаточно быстро он потеряет академическую квалификацию, потому что для выполнения этих функций не требуется высоких аналитических способностей. На этом месте требуется человек с совершенно специфическими природными данными, то есть другой.
В связи с ростом уровня технологий, нижний порог необходимого интеллекта постоянно растет. Нас уже не удивляет компьютер или телевизор где-нибудь в глубине джунглей или пустыни. Растет уровень когнитивной сложности человека, что впрямую влияет на формирование его личности. Мы имеем в обществе постоянную тенденцию направленную на укрепление положения личности, то есть фактически индивидуальности. Ценность каждой отдельной интеллектуальной единицы становится всё более высокой, свобода развития индивидуальности дает всё более широкий разброс типов. Разнообразие наших взглядов, мнений, предпочтений растет с каждым днем, а это порождает новую проблему.
Согласно закону Уильяма Росса Эшби великого английского психиатра и кибернетика, чем выше разнообразие сложной системы, тем выше должно быть разнообразие управляющей структуры, то есть мы снова сталкиваемся с необходимостью разнообразия личностей, но уже в сфере управления, что никак не подтверждает возможность абсолютного равенства, но именно абсолютного.
Нам необходимо признать, что в обществе всегда будут выдающиеся личности и масса, это необходимо для прогресса. С известной долей цинизма можно сказать, что равенство необходимо для успокоения масс, а свобода и неравенство для мотивации выдающихся личностей. Снижение уровня конфликта между этими процессами – смысл вектора справедливости. Нужен ли этот конфликт и связанная с ним агрессия? Он необходим, но энергия конфликта не должна превышать потенциальную силу влияния групп или отдельных личностей на способность поддерживать существование человеческой цивилизации.
Личность, индивидуальность, на первый взгляд кажется, что эти понятия являются антиподами понятию равенство. Без сомнения есть неравенства, которые всегда подавляют индивидуальность. К ним смело можно отнести неравенство экономическое, социальное, политическое, но о неравенстве культурном, интеллектуальном такого сказать нельзя.
Интеллектуальное неравенство в своей основе имеет природный, генетический характер. Основатель этологии лауреат нобелевской премии Конрад Лоренц считал, что семьдесят процентов способностей человеку дает природа и только тридцать воспитание. Изменить что-то радикально крайне трудно, кроме этого нельзя не заметить, что интеллект всегда имеет определенную направленность. В шестидесятые годы прошлого столетия в СССР было модно всех делить на физиков и лириков, но на самом деле таких групп намного больше. Можно ли считать неравенством способность к музыке против способности к математике, нет это элементарное разнообразие, которое так необходимо для эффективности управления и выживаемости общества в кризисные периоды. Это касается не только «высших» материй – наук или искусства. Умение возводить здания, водить автомобиль, готовить вкусную пищу или шить красивую одежду, также несравнимы – это разность интеллектов, но не неравенство. Разность интеллектов не должна порождать социальное неравенство, она делает людей разными, но не ранжирует их.
При детальном рассмотрении культурное, интеллектуальное неравенство превращается в необходимое разнообразие, которое никак уже не отражается на свободе личности. Границы свобод интеллектуально разных личностей не пересекаются, они свободно расширяются, не порождая неравенства, а это существенно изменяет конструкцию высшей справедливости. Вероятно в ней между интеллектуальным неравенством и культурным разнообразием будет поставлен знак тождества.
Социальное неравенство, которое логично вырисовывается из иерархии управления, может компенсироваться равенством возможностей и относительной краткосрочностью исполнения обязанностей по управлению системой. Экономическое неравенство вероятно исчезнет совершенно, в нем нет необходимости для развития общества. Конкуренция собственностей, которая была и пока еще остается двигателем экономического развития, может быть заменена другими видами конкуренции. Подробно возможные способы достижения экономического равенства мы рассмотрим в разделе «Вектор роста потребления».
В завершении главы необходимо отметить, что новые более высокие уровни свобод и равенства это не благо, которое завоевывает человек, а перманентные попытки решить конкретные задачи по выживанию цивилизации, задач которые возникают в результате эволюционных кризисов. Новые технологии, новые энергетические уровни заставляют нас продвигаться вверх по лестнице равенства и свободы.
Без сомнения в будущем социуму потребуется найти несравненно более мощные источники энергии. Решение этой проблемы обязательно приведет к возможности получения оружия с соответствующей энергоотдачей и таких масштабов разрушения, что все ядерные боеголовки, имеющееся сегодня на Земле покажутся детской забавой. Сохранить тайну доступа к такому оружию в рамках всеобщего информационного пространства будет крайне сложно, если возможно в принципе. Появляется реальная опасность «знаний массового поражения», когда знания одного индивидуума будут представлять опасность для всей планеты, если не Вселенной. Причем практическое применение этих знаний уже не потребует огромных финансовых затрат, работы тысячных коллективов, уникальных источников энергии, которые общество способно было контролировать в прошлом. В одиночку можно будет легко угробить всю планету и это не болезненные фантазии, об этом уверенно говорят специалисты.
Причем варианты могут быть разные, кроме энергетического есть и другие, например нанотехнологии, которые будут иметь возможность производитькрохотных нанороботов. Они могут стать оружием способным уничтожать биологические объекты с невероятной скоростью, несколько суток и никакой жизни на Земле и пейзаж подобный лунному.Нельзя исключать и хакерские атаки на объекты повышенной опасности военные или энергетические. В этой ситуации существование людей с ущемленными свободой и правами или находящихся в отношениях неравенства, подавляющего личность, будет равносильно самоубийству человечества.
С большой уверенностью можно сказать, что звездных войн, так красиво изображенных в фильмах Джорджа Лукаса, не будет никогда. Общество, обладающее подобными технологическими возможностями, в тандеме с необузданным насилием существовать не может. Высокому уровню энергетических возможностей должны соответствовать соразмерные гуманитарные регуляторы, основанные на необходимых уровнях свободы, равенства и прав. Без этого общество не сможет прогрессировать.
Как свидетельствует синергетика за все положительные преобразования надо платить. За каждый переход на новый более высокий уровень цивилизации человек отдает какие-то привилегии, отдает свою власть над чем-то и попадает в зависимость от чего-то. Весьма вероятно, что платой за сохранение жизни в условиях существования «знаний массового поражения» будет отказ от права собственности, от экономического неравенства. Смягчив таким образом неравенство социальное, переведя его из области материальной в область более естественную интеллектуальную, человеку возможно удастся уберечь общество от неадекватных действий отдельных личностей. Во всяком случае, у него появится шанс. В условиях существующего экономического рабства этого шанса нет даже в теории. Нам придется что-то в этом изменять, иначе мы не выживем. Именно проблема выживания упорно будет толкать нас вверх по лестнице свобод и равенств, по лестнице новых конструкций справедливости.
§ 23 Заключение
Я надеюсь, что в результате долгих рассуждений мы всё-таки пришли к выводу – движение к справедливости можно назвать векторным, оно имеет начало, направление, не имеет предела, но может иметь величину для определенного исторического времени. Абсолютная справедливость лишь идеал. В реальности можно говорить только об «объективно правильной» конструкции, которая связана с сохранением жизни на земле. В своем высшем варианте все её элементы: свободы, равенства, возможности и права стремятся к пределу.
При этом мы должны отдавать себе отчет, что при движении в направлении вектора справедливости, приверженность людей к моральным нормам вряд ли изменилась со времен Платона и Заратуштры. Она не стала сильнее, повысилось лишь качество этих норм, шире стало их распространение в обществе. Эффект самопринуждения, о котором говорил Кант, остается определяющим при соблюдении этических правил. Человек никогда не сможет без этого соблюдать необходимые моральные нормы. Его собственное эго, собственная физиология будут толкать его в другую сторону, но этические правила полученные ним от своих предков в виде генов, воспитание, полученное в семье и обществе, создадут возможность избежать соблазнов. Хотя возвраты к старым конструкциям справедливости будут продолжаться, возможно в течение всей человеческой истории.
Высшая справедливость это не только существование в реальной жизни набора свобод, прав, равенств и возможностей, это не только соответствие «должному» всех поступков людей, это осознание ними необходимости этого. Для них несоответствие «должному» будет нести не просто негативный психологический окрас, но дискомфорт иногда ощущаемый даже физически.
Пытаться прогнозировать будущее необходимо, но нужно осознавать, что эти попытки не желание знать, какие события произойдут в далеких или близких веках, это скорее желание конструировать процессы, изменять сегодняшнее бытиё для лучшего будущего, хотя конечно, мы можем говорить о «лучшем» лишь с позиций сегодняшнего дня. Характер эволюции насыщен творчеством, никакой нашей фантазии не хватит, чтобы представить, что будет действительно «лучшим» для будущих поколений, но пытаться это сделать – наш долг перед потомками.
Вектор справедливости укажет людям путь, по которому следует идти, чтобы достигнуть той справедливости, которую когда-нибудь, кто-нибудь не побоится назвать высшей. Он вместе с другими векторами позволит делать главное – сохранять жизнь на планете Земля.
*****
Возможно, кому-то эта работа покажется схематичной и фрагментарной, но в своё оправдание хочу сказать, что слишком велика тема справедливости, слишком много авторов оставили в ней свой след. Я старался изложить гипотезу вектора движения к справедливости максимально сжато, не распыляясь. В работу не включены идеи многих философов, особенно это касается представителей Азии, но идея вектора предполагает изложение наиболее авангардных работ, а ими в большинстве случаев пока были работы европейцев. Самым важным я считал отразить идею векторности, а не описать её наиболее широко и подробно, надеюсь, это объяснит особенности этой работы.
14 апреля 2015 г.
Литература
1. Амария Сен «Адам Смит и современность». Вопросы экономики. 2011, №11.
2. Апресян Р.Г., Максимов Л.В., Гусейнов А.А. «Мораль и рациональность». М. 1995г. «Обоснование морали как проблема».
3. Аристотель «Большая этика». Сочинения в 4-х томах. Т.4. М. Мысль. 1983.
4. Бакунин Михаил «Принципы и организация интернационального революционного общества. Революционный катехизис». Избранное. М. Эксмо-Пресс. 2012.
5. Бентам Джереми «Деонтология или Наука о морали». М. Изд-во РОССПЭН, 1998.
6. Бентам Джереми «Введение в основание нравственности и законодательства». М. Изд-во РОССПЭН, 1998.
7. Бердяев Н.А. «Самопознание». М.: Международные отношения, 1990
8. Бердяев Н.А. «Философия неравенства». Париж: YMCA-Press, 1990.
9. Бердяев Н.А. «О рабстве и свободе человека, Опыт персоналистической философии». М. Республика, 1995.
10. Бэкон Френсис «Новая Атлантида. Опыты и наставления». М. Издательство Академии наук СССР. 1962.
11. Вебер Макс «Протестантская этика и дух капитализма». Избранные произведения. М. Прогресс. 1990.
12. Вебер Макс «Политика как призвание и профессия». Избранные произведения. М. Прогресс. 1990.
13. Вейтлинг Вильгельм «Гарантии гармонии и свободы». М.Издательство Академии наук СССР. 1962
14. «Всеобщая декларация прав человека». Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года
15. Гегель Георг «Феноменология духа». «Философия истории».М. ЭКСМО. 2007.
16. Гегель Георг «Философия права». М. Мысль. 1990.
17. Гоббс Томас «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского». 2001. Мысль.
18. Даймонд Джаред «Ружья, микробы и сталь». 2010. АСТ Москва.
19. Дьяконов И.М. «Пути истории: от древнейшего человека до наших дней», изд 2-е. М. Комкнига. 2007.
20. Кампанелла Томмазо. «Город Солнца». Библиотека фантастики в 24 томах. Том 15. 1989 г. Антология.
21. Кант Иммануил «Критика практического разума». Сочинения в шести томах, том 4. М. Мысль. 1965.
22. Кант Иммануил «Критика чистого разума». М. Мысль. 1994.
23. Кропоткин Петр «Анархия. Её философия, её идеалы». М. 2004. ЭКСМО.
24. Кропоткин Петр «Государство и его роль в истории». Избранные труды. М. 2010, изд. Российская политическая энциклопедия.
25. Кропоткин Петр «Современная наука и анархия». 1990. М. Наука.
26. Ла Боэси Этьен де «Рассуждение о добровольном рабстве». М. 1952. Издательство Академии наук СССР.
27. Локк Джон «Два трактата о правлении». Сочинения: В 3 т. Том. 3. М. Мысль, 1988.
28. Маркс Карл «К критике политической экономии» Сочинения К. Маркс и Ф. Энгельс, изд 2, том 13. М. 1959.
29. Маркс Карл и Энгельс Фридрих «Манифест Коммунистической партии». Сочинения К. Маркс и Ф. Энгельс, изд 2, том 4. М. 1955.
30. Маркс Карл «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.» Сочинения К. Маркс и Ф. Энгельс, изд 2, том 7. М. 1956.
31. Маркс Карл и Энгельс Фридрих «Ф. Фейербах, Противоположность материалистического и идеалистического воззрений». 1970. Избранные сочинения в трех томах. Том первый. М. Издательство политической литературы.
32. Маркс Карл и Энгельс Фридрих «Немецкая идеология». 1988 г. М. Издательство политической литературы.
33. Милль Джон Стюарт «О свободе». Антология мировой либеральной мысли (I половины ХХ века). М.: Прогресс-Традиция, 2000.
34. Монтень Мишель «Опыты». 2009, ЭКСМО.
35. Монтескьё Шарль-Луи «О духе законов». Избранные произведения. М. Монтескье Ш.Л. 1955, Госполитиздат.
36. Мор Томас «Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии». Библиотека фантастики в 24 томах. Том 15. 1989 г. Антология.
37. Назаретян А.П. «Цивилизационные кризисы в контексте универсальной истории». 2004, изд Мир.
38. Назаретян А.П. «Нелинейное будущее». 2013, изд. МБА.
39. Ницше Фридрих «Так говорил Заратустра». 2010. ЭКСМО.
40. Ницше Фридрих «Сумерки идолов, или как философствуют молотом». 2009 г. Изд. Дом «Культурная революция».
41. Платон «Государство». 2005г. Наука.
42. Плеханов Георгий «Карл Маркс и Лев Толстой». Плеханов Г.В. Избранные философские произведения в пяти томах, том 5. Госполитиздат. 1958 г.
43. Рикардо Давид. «Начала политической экономии и налогового обложения», 2007, ЭКСМО.
44. Ролз Джон «Теория справедливости». 2010 г, изд. ЛКИ.
45. Руссо Жан Жак «Об общественном договоре или принципы политического права». Перевод с франц. А.Д. Хаютина и В.С. Алексеева-Попова. По изд.: Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. - М.: "КАНОН-пресс", "Кучково поле", 1998
46. Руссо Жан-Жак «Эмиль или о воспитании». Педагогические сочинения: В 2-х т. М. Педагогика, 1981.
47. Смит Адам «Исследование о природе и причинах богатства народов». 2007, ЭКСМО.
48. Смит Адам «Теория нравственных чувств или опыт исследования законов, управляющих суждениями, естественно составляемыми нами сначала о поступках прочих людей, а затем и о своих собственных».1997, изд. Республика.
49. Токвиль Алексис де «Демократия в Америке». Пер. с франц./ Предисл. Гарольда Дж. Ласки. — М.: Прогресс, 1992.
50. Соловьев Владимир «Оправдание добра» (Нравственная философия Том 1), 2010, изд. Академический проект.
51. Фромм Эрих «Бегство от свободы», 2008, изд. Академический проект.
52. Фромм Эрих «Человек для себя», 2012, изд. Астрель.
53. Энгельс Фридрих «Антидюринг». Собрание сочинений К.Маркс и Ф. Энгельс, 1961, изд 2, т. 20
54. Энгельс Фридрих «Принципы коммунизма». Сборник 2009 г. изд ИТРК
55. Энгельс Фридрих «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Собрание сочинений К.Маркс и Ф. Энгельс,1961, изд 2, т 21.
56. Юм Дэвид «Трактат о человеческой природе» 1998 г. «Попурри»
57. Юдин А. «Георг Зиммель: почему он не стал философским классиком?»
58. Ясперс Карл «Смысл и назначение истории». 1994г. изд. «Республика»
Сконвертировано и опубликовано на http://SamoLit.com/