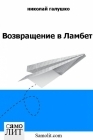Колин Голл
Возвращение в Ламбетт
«Сердце человека обдумывает свой путь, но
Господь управляет шествием его».
Книга притчей Соломоновых: 16,9
( из письма к редактору «Ньюйоркер», 1969 год).
« Ведь совершенно очевидно, что путешествие было ярким и неожиданным на большом его протяжении: следовательно, я не могу воспринимать его как самое обычное уже потому, что в основу положен, как это принято говорить, необычный случай, его соответственно определяющий и который я волен, но, тем не менее, в силу своих убеждений, не имею намерения мистифицировать. Одним словом, место действия вам уже известно, остается только пояснить, что история, которую я собираюсь рассказать, берет начало в 1935 году. Я не имею намерения также убеждать в ее драматической достоверности того, кто не способен понять автора, который обладая воображением и способностью рассуждать на основании фактов, тщится быть философом, как вы понимаете, себя я не числю им, но я умею связывать мысли с образами, - чтобы не сказать больше, - а потому, нет ничего удивительного в том, что я вдруг начинаю свое повествование, вдохновленный идеей. Таково происхождение этой выцветшей и потрепанной рукописи: если вы одолеете труд ее прочтения и решите, что рассказ о событиях, происшедших во времена цветущего моего возраста, стоит предложить вниманию читателей, прошу только об одном, - оставьте без изменений мою манеру изложения, поскольку нахожу ее достойной самого повествования. Стало быть, если вы все-таки решитесь переработать мой слог, можете быть уверены, что с моей стороны на это последует негодующее возражение. Но что же? Однако я не буду против, если вы возьметесь за переделку моего труда только в случае крайней необходимости, мне даже до известной степени будет угодно, если во всех тех местах, где имеется напыщенная декламация или вдруг наткнетесь вы на риторическая тяжеловесность, тем самым поставите себя перед необходимостью убрать из текста фразы некстати употребленные. Конечно, вы понимаете, что я не собираюсь подтверждать достоверность обстоятельств, которым, в силу их необычайности, читатель не будет склонен поверить, по двум соображениям: одно из них – то, что я пришел к возможности рассказать о невероятных событиях, не ставя себе целью исследовать их до основания; другое – то, что меня мало беспокоит, если моя история покажется ему не особенно правдивой, а потому он усомниться в ее реальности, она нисколько от этого не пострадает, если только вообще правда кому-то нужна. И пусть никто не думает, что я нахожу в обыденной жизни мало чудесного и потому усилил свою и без того удивительную историю введением необычных событий, дабы сделать ее необычной в общем порядке вещей. Сразу скажу, не отбрасывайте предположение о реальности сюжета, не задавайтесь вопросом, есть ли в нем хоть что-то правдоподобное, не ищите недостатки в его построении и мысли неуместные в содержании, и даже не думайте, каким количеством вымышленных фактов я старался обогатить свою историю, и тем более не упрекайте меня в том, что я нагромоздил причудливые обстоятельства одно на другое. Как бы там ни было, без этого не стало бы ни интриги, ни романа, и иллюзия не имела бы места». И все же вот она.
В начале лета 1935 года детройский офис «Кадиллак» получил эксклюзивный заказ на ставшую престижной к тому времени восьмицилиндровую модель «Series 335» от своего постоянного клиента английского аристократа Ч. Гулда. Незадолго до этого я ушел из специализированной кузовной студии, где работал художником, в новообразованную студию « Эстетика и цвет», которая стала составной частью прославленной компании. Возглавил ту студию Харли Эрл: человек-легенда. Он принял в моей судьбе самое деятельное участие; помимо всего прочего, мое появление в упомянутой студии было делом его рук. Харли стал моим другом, мы были постоянно вместе к моему и его удовольствию. Объединяло нас то, что мы были молоды и честолюбивы. Мне исполнилось двадцать четыре года, Харли было за тридцать. Мы оба были молоды, здоровы, гордились своим положением, а легкость, с какой мы жили и дышали, была оправдана до известной степени безмятежным жизнелюбием. Как-то под вечер, мы прогуливались за городом и Эрл, хотя к английскому заказу он не имел прямого отношения, предложил мне сопровождать дорогую машину за океан. « Очень рекомендую тебе принять предложение» - подытожил он. Я собрался с мыслями и после недолгого колебания дал свое согласие. Решающим был довод, что это путешествие внесет в мою жизнь приятное разнообразие. Я нуждался в переменах, больше того, не мог обойтись без них. Таким образом, приблизительно через месяц, я отплыл на трансатлантическом лайнере « Королева Мария» из Нью-Йорка в Лондон.
Был теплый вечер, я стоял на верхней палубе, смотрел на удалявшийся символ великого города и трепетал от мысли, что отправляюсь в романтическое путешествие. Разумеется, я не знал, да и не мог я знать, что на самом деле, судьба ведет меня к немыслимой цели. Не помню, какие мысли теснились в моей голове, - решение было стремительным, при том, что предложение возникло просто и естественно, - но помню, что они держали меня в большом волнении: мой взгляд скользил по лицам окружавших меня людей, отплывавших в Европу, их чувства тоже определялись положением, и я подумал, что каждый их них по-своему заинтересован в событии, занимающем всех. Полагаю, не надо объяснять то, что не нуждается в объяснении, хотя изложение требует, чтоб все было сказано. Итак, 18 августа, если мне не изменят память, после остановки в Портсмуте я прибыл в Лондон и вступил на землю Англии, которая, при тогдашней моей впечатлительности, меня поразила торжеством западноевропейского духа. На следующий день я свел знакомство с сиятельным герцогом Гулдом. Его полное имя было Чарльз Сент-Джон Гулд герцог Дорвардский. Он верил в свое происхождение от Габсбургов. Его прапрадед Томас Гулд, первый герцог Дорвардский был лидером тори и премьер-министром при королеве Анне: она возвела его в рыцарское достоинство и пожаловала поместье Дорвард, которое оставалось его собственностью и после падения дома Стюартов. Здесь и родился 21 сентября 1902 года Чарльз Гулд . Я приехал в замок Дорвард, который находился к северо-востоку от Гластонбери в середине августа 1935 года. Тогда – то и взяли свое начало удивительные события, меня прямо касающиеся, о коих я собираюсь рассказать правдиво и обстоятельно, почти ничего не упуская и в той последовательности, в которой эти события произошли.
Глава 1.
Преодолев без труда неглубокие ямы, на дороге, которая имела слабый и непрерывный уклон, могучая машина выбралась на асфальт и покатила в сторону замка. Я помахал рукой и мне ответил мелодичным звуком клаксон. Вскоре машина остановилась возле меня.
-Это чудо! – воскликнул герцог Харди, он был вне себя от счастья. – Еще один шедевр от Кадиллака!
Сказав это, он извлек из кармана носовой платок и протер одну за другой обе фары, после этого он смахнул пыль с сетки радиатора и обошел машину спереди, отступил на шаг, приставил руку к боку и сказал в той же тональности:
- Верх изысканности. Белое и черное. Просто и так выразительно!
Он имел в виду белую обводку на шинах, которая гармонично сочеталась с величественными формами черного кузова.
-Пойдем, я тебе покажу кое-что.
Мы прошли вдоль фасада и через готическую арку вошли во внутренний двор.
-Лошади давно уже распроданы с аукциона, - сообщил он мне и сделал знак слуге открыть массивные двустворчатые дубовые ворота в конюшню.
В просторном, прохладном помещении, стены которого были выложены из гладкого камня, стояли в ряд более десяти машин. Между окон на гвоздях висела парадная упряжь.
-Эта, одна из моих любимых, - показал Харди. – Выглядит очень утонченно и аристократично. Передние крылья традиционно летящей формы, запасное колесо, во всем совершенство линий, тормозная система, само собой гидравлическая.
-“La Salle” – первая модель Эрла для Кадиллака, - сказал я.
-А теперь посмотри на это маленькое лакировано чудо. Модель “ Eight”. На таких машинах ездят звезды Голливуда. В ней есть что-то от Паккарда. На мой взгляд, Паккард делает самые красивые машины в мире. Ну, а эти две: “Type 51” и “Type 57-Victoria” выглядят очень скромно, в духе Форда и вроде ничем особым не примечательны, если не считать, что “Type51” 1915 года выпуска, является первой американской восьмицилиндровой моделью с первым в мире мотором с жидкой системой охлаждения, имеющей термостат.
-До этого, - прибавил я, - в ходу были преимущественно четырехцилиндровые машины. А эту модель я знаю, - первый в мире автомобиль с электрическим стартером. 1912 год.
-И знаменита не только этим, - подхватил Харди. - Эти две и более ранние машины собраны из полностью взаимозаменяемых деталей. Знаешь, я предпочитаю всем машинам Кадиллаки, но это не мешает мне восхищаться моделями Бьюик, Паккард, Хадсон, Студебекер, Линкольн, Форд. Американские машины мне по душе, они имеют индивидуальность и душу. Я имею основание думать, что европейцам не хватает вкуса и души, чтобы делать по-настоящему красивые машины. Технически они хороши, вот только все они какие-то топорные, серые, неинтересные.
Говоря это, Харди прошел мимо первой модели Кадиллака “ Runabout” и остановился перед покрытой черной тканью машиной.
-Здесь, - улыбаясь, сказал он, - непревзойденная, безупречная, самая лучшая машина в мире!
Не сводя с меня блестящих глаз, он стянул покрывало на пол, и моему взору открылась действительно потрясающая машина – на олимпийском возвышении, устланном красным ковром, стоял роскошный, монументальный серебристый Кадиллак « Спорт Фаэтон» 1931 года.
-Вот она машина всех времен и народов! – воскликнул Харди, гордый тем, что является владельцем столь бесценного приобретении. – Супермашина! Первый и единственный в мире автомобиль с фантастическим мотором V16 и гидрокомпенсаторами клапанов в моторе. Настоящий монстр с душой прекрасной девы. При случае завтра или послезавтра мы поедем на ней кататься в предместье.
-Но я должен вернуться в Лондон, - начал я.
-Должен?- переспросил Харди. – Или хочешь?
-Не то чтобы очень хотел, но - признался я.
-Я намерен продолжить знакомство. Этим я хочу сказать, что ты мой гость. Я не отпущу тебя ни сегодня, ни завтра.
-Ваша светлость, я не могу. Меня ждут в Нью-Йорке. Эрл, сказал…
- Я ему позвоню. И еще, я тебе не разрешаю называть меня таким образом. Просто Чарльз. Обойдемся без церемоний. Ну, что скажешь?
-Даже не знаю, что сказать, - отозвался я.
-Если не хочешь, убирайся в Лондон. Дорога туда прямая.
-Пусть будет, как я хочу – остаюсь, - сказал я и пожал протянутую мне руку.
За порогом, привалившись плечом к дверному косяку, стоял слуга в балахоне с накладными карманами, он что-то говорил другому слуге в соломенной шляпе, который тоже смотрел на нас. Когда мы приблизились, они почтительно посторонились, мы вышли из бывшей конюшни и тяжело заскрипевшие на ржавых петлях ворота закрылись за нами. В это время по двору, озаренному заходящим солнцем, проходила немолодая женщина в простом коричневом платье. Она отвесила мне учтивый поклон и обратилась по какому-то делу к хозяину. Я стоял на некотором расстоянии от них, мой взгляд блуждал по обширному двору, образованному с трех сторон каменными зданиями с разными окнами, одна сторона, собственно, имела вид боковой стены замка, который именовался Дорвардским или Большим пальцем по главной башне: высокая и толстая, она когда-то была частью средневековой крепости, что и придавало ей сходство с пальцем.
-Письмо от Шолема принесите в кабинет, - сказал Харди, посмотрел на меня, перевел взгляд на экономку и спросил – Что-нибудь еще?
-Дерзкий мальчишка…
-Могу себе представить, опять какая-нибудь его выходка!
-Это дело требует вашего вмешательства, дошло до того, что… - сказала она с серьезным видом, собираясь продолжить, но герцог жестом остановил ее.
-Сколько раз мне вам повторять: оставьте его в покое. Прежде всего – он ребенок…
- Он всячески меня задирает, старается направить на меня всех слуг, все эти гадости с его стороны мне опротивели, я потеряла покой, скажу прямо, вы приблизили его к себе до такой степени, что - вознегодовала Эбигейл.
-Замолчите! Ничего не хочу знать об этом. У вас будет ко мне еще дело?
- Да, будет. У кого мне заказать уголь? – осведомилась экономка.
Бросив взгляд в окна нижнего этажа, ставни которых были открытыми, я посмотрел на эту худую, мужеподобную женщину. Грубое лицо ее всегда было непроницаемым, даже в позе она сохраняла властность, но все в ней отражало сокрушенное величие.
-Как всегда, у Рабена, - ответил Харди.
-У Боуза уголь дешевле, - прямо сказала она, и решительный тон придал силу ее словам. - Вдобавок, у него можно взять дрова. Так вот, я говорила с ним по телефону, завтра он будет у нас.
-Хорошо, покупайте у него, если сочтете нужным, - вздохнул герцог и сделал жест в мою сторону. – Теперь, Эбигейл я хочу представить вам моего гостя из Америки, он останется на какое-то время у нас.
Эбигейл слегка откинула голову назад и измерила меня, как того и заслуживает новое лицо, нарушающее в какой бы то ни было мере покой, поверхностным взглядом, при этом в нем сквозила строгость не оставлявшая и малейшей надежды на снисхождение. Приходится думать, что я очаровал герцога, не прилагая к тому никаких усилий, он находил меня нежным, привлекательным и простодушным. Этого мнения не разделяла Эбигейл, она знала, какие расходы приносит прием даже одного гостя потому и была озабочена моим появлением. Она вообще не любила гостей, даже титулованных, на разумном основании, обычно, она говорила: «от них только ущерб и разорение», а посему по-настоящему радовалась, когда они убывали в числе.
- Я хочу, чтобы вы сделали его пребывание у нас приятным во всех отношениях. Приготовьте для него лучшую комнату, поближе к моей.
-Вишневую что ли? Это не представляется возможным, - заявила Эбигейл. – Та комната, пришла в негодность. Того и гляди потолок рухнет. Было бы лучше отвести ему спальню Сибиллы.
-Вам виднее, - сказал герцог. – Распорядитесь, чтобы приготовили ту комнату.
-Я сделаю это безотлагательно, - кивнула Эбигейл и посмотрела на меня – представьте себе! - осуждающим взглядом, как если бы было установлено за мной какое-то преступление. Надо сказать, что она имела широкие и неограниченные полномочия для ведения домашних дел и, несомненно, всегда была полна всемерной решимости добиться повиновения от всякого.
Едва экономка отошла от нас, ее окликнула из окна кухарка, Эбигейл подошла ближе, достала из кармана связку ключей и передала их кухарке.
Такова была моя первая встреча с Эбигейл, флегматичной, педантичной до крайности, аскетичной и ограниченной всем этим старой матроной.
-Она управляет всеми тут делами, - сообщил герцог, когда мы шли через двор. – Она мелочная, сварливая, злая на вид, но безобидная фурия. Самый большой ее недостаток, пожалуй, - скупость. Она постоянно думает о том, сколько, что стоит. Что скажешь?
-А что я могу о ней сказать? Посмотрю, подумаю, что можно сказать. На это нужно время, - а пока ничего.
-Знаешь, объявись у меня какой-нибудь враг, - так она ему сразу глаза выцарапает. Она преданна мне настолько, что станет защищать меня хоть против самого дьявола.
-Мне кажется, что у нее строгий нрав, такие женщины, быть может, и даже почти наверное, никогда не грешат против своего долга и совести.
-О, так, значит, и ты понимаешь это? Она – столп и утешение нашей семьи, все делает для нашего блага. Мне кажется, ты ей не понравился. Это-то меня больше всего и удивляет!
- О да! Важно то, что мне ничего не стоит расположить ее к себе.
-Вряд ли тебе это удастся.
-Почему нет? – возразил я.
-Еще никому это не удалось. Эта мумия не способна чувствовать. Представь себе, она даже не улыбается.
-Я заставлю ее улыбаться.
-Хорошо, заключим пари: если ты добьешься ее благосклонности, я подарю тебе двадцать бутылок вина из моего подвала. А если у тебя получится выжать из нее улыбку, прибавлю еще пять.
-Тогда прикажи упаковать двадцать пять бутылок в деревянный ящик.
-Подожди, определим срок: скажем, две недели.
-Так долго мне не разрешат оставаться здесь, - возразил я.
-Не беспокойся об этом, - весело бросил герцог. - Ну, так что две недели?
-Согласен. Скажи, кто разозлил Эбигейл?
-В замке живет мальчик, в некотором роде сирота. Я опекаю его, а Эби пытается наставлять, с тем проклятым благоразумием, в котором сквозит провинциальная тупость и викторианская строгость, она пытается его образумить, подчинить себе, но все сводится к откровенным столкновениям и ненависти. Она честная, трудолюбивая, ревностная, смиренная женщина, такие, как она не оставят на возделанном поле сорную траву, но она относится ко всему слишком серьезно, делит все на черное и белое, она просто не понимает, что чрезмерное благоразумие может быть тем лекарством, которое хуже самой болезни.
Я посмотрел вперед и увидел невысокую тучную женщину в зеленом платье, лиловых чулках и белой шляпке. Ее внимание было захвачено новым кадиллаком, стоявшим перед парадным входом. На верхней ступени лестницы стоял упитанный, добродушный на вид и вроде безгрешный, а посему не знающий терзаний совести, дворецкий в серой ливрее. У меня создалось впечатление, что он был риторической фигурой, а женщина в зеленом принадлежала к тому типу своенравных и капризных особ, которые ни в чем не знают меры.
-Ах, Харди! Ох, злодей! – громогласно воскликнула она, потрясая маленькой рукой. Последовавший затем поток слов содержал какое-то психопатическое чувство, оно делало ее речь обрывистой, нескладной и истеричной. Прелесть ее слов стала мне понятнее, когда Чарльз сообщил вполголоса, что она одержима положительной страстью к поэтическому экстазу. – Как я в тебе ошиблась! Да что уж там! Я такая умная дала себя обмануть. Это что такое? Еще скажи, мне птичке, залетевшей во двор, что это твое неожиданное приобретение. Говорил, что денег нет, а сам, что? Ты меня в известном смысле ограбил. А. Ты расчетливый и вероломный! Прислал мне апельсины. Сам их ешь! У меня к тебе длинный список различных претензий, никогда тебя не прощу. Простить тебя? Это выше сил моих, потому не могу.
-Я особенно не тревожусь на этот счет, дорогая Хлоя, - был ответ. Пока старая дева обдумывала его слова, кусая губы и вздыхая, он представил нас – Обри Маршал – Хлоя Уэнрайт.
Приблизившись, я пожал ее руку. Хлоя, рассчитывавшая исключительно на успех в мужском обществе, увидела, что ей придется иметь дело с юношей, который не очень рад быть ей хоть чем-нибудь полезным, а посему, вряд ли она может рассчитывать на соответствующее обращение. Стало быть, я забуду о ней сразу же, как она уйдет туда, откуда пришла. Зачем взгляды сопровождать вздохами, если тот, кому они предназначены, совсем не заинтересован завести новую связь. Да иначе и быть не могло, - от меня нечего ждать. Вот так история! При таком положении дел, Хлоя, вероятно, решила, что будет иметь дело со мной, только в случае крайней необходимости. Харди смотрел на меня с восхищением, он радовался знакомству со мной, но Хлоя вовсе не находила причины радоваться вместе с ним. Она стала приставать к герцогу, чтобы он продал ей машину, отозвала его в сторону и не постеснялась напомнить ему о долге, он не сдавался и Хлоя, не сходя с места, заявила, что готова взять новую машину в качестве уплаты, но Харди решительно отказался: Хлоя снова напомнила, что он ей должен, но он отмахнулся, тогда одуревшая женщина обрушилась на него с упреками за то, что он не принимает это в расчет. Доставить большую неприятность ей было, пожалуй, невозможно, ибо ей не хватало роскошной машины как раз сейчас, когда она ей была всего нужней, не говоря уже о том, что новый Кадиллак возбуждал в ней желание получить его в собственность.
В это время с лестницы спустился дворецкий и взял мой чемодан, герцог велел ему препроводить меня к Эбигейл, видя, что его светлость занята разговором, я последовал за ним. Мы прошли сразу в столовую, где все домашние собрались к ужину. Меня усадили рядом с рыжим, неотесанным парнем, лицо которого было слегка повреждено оспой. Его звали Огастин. Дальше расположились служанки Ада и Джейн. В центре восседала самолично Эбигейл, по левую руку от нее два места занимали пожилые женщины – прачка Гризелла и краснолицая кухарка м-сс Лифтон. Амброз сел на углу стола. Перед каждым на плоской тарелке аппетитно дымился горшок с тушеной бараниной и картофелем. Кроме масла на столе был домашний хлеб. Поскольку Эбигейл взирала на всех и на каждого не иначе как с пренебрежением, ее присутствие за ужином не располагало к застольному разговору. Для нее главной обязанностью было вести домашние дела в замке, свою работу она выполняла наилучшим образом, но порядок, который она установила, надо думать, ради человека, был важнее самого человека. Поэтому собравшиеся, то и дело украдкой поглядывая на ее вытянутую физиономию, вели вялый разговор, всем своим видом каждый как бы показывал, что он томится ее присутствием. После ужина дворецкий повел меня за собой по узкой каменной лестнице на третий этаж. Поселили меня в уютную комнату с двумя окнами во внутренний двор. В моем распоряжении была еще смежная комната с чугунной ванной. В обеих комнатах, не смотря на то, что топился камин, было сыро, к тому же было очевидно, что здесь всегда царит полумрак. Дело в том, что дневной свет попадал в эту угловую комнату из затененного двора, образованного с одной стороны главным фасадом, а с другой сводчатой крытой галереей примыкавшей к башне, именовавшейся Большим пальцем. Конический купол башни, построенной в XV веке, не сохранился. Позднее я узнал, что в той башне содержался до конца своих дней умалишенный дед герцога: он прожил бурную жизнь авантюриста, карточного игрока и двоеженца, но потерял рассудок в восемьдесят два года после удара черепицы упавшей ему на голову с крыши башни. Это так, между прочим. Некоторое время я был один: уже после того, как я развесил на вешалках рубашки, а чемодан сунул под кровать, в дверь постучалась, а затем вошла Эбигейл. С порога она посмотрела на меня с таким видом, словно хотела сказать: « Вот и я – здесь!». Молча и неторопливо прошла на середину комнаты, осмотрелась, положила левую руку на ладонь правой, одновременно опустив правое плечо и подняв левое и уже приняв позу, без которой никак нельзя было обойтись, устремила на меня пристальный взгляд, который сопроводила такими словами:
-Я пришла, - ну, скажите, если не вовремя, так я уйду.
С улыбкой посмотрел я на нее и сказал:
-Нет, что вы.
После общих фраз замечательных своей недосказанностью, и бывших чем-то вроде предисловия, она еще раз смерила глазами меня, и в обычной манере вызывать в собеседнике мысль о своем превосходстве, начала так:
-Между прочим, до вас тут проживал один милый, скромный больше обычного и порядочный юноша, хотя на первый взгляд, так провинциал-простофиля. Вот уж сказала! Довольно с него и того, что во всех своих видах он вообще-то выказывал себя непритязательным молодым человеком и как таковой заслужил мое расположение своей положительной неспособностью возражать там, где дело касается его самого. Было в нем что-то такое, что заставляло меня быть снисходительной. Наблюдая и ни о чем не расспрашивая, заметила, что он немного склонный к мечтательности был – все это немало способствовало допущению некоторых затруднений, впрочем, ни одно из них не имело даже малейших последствий. Вы знаете, сколько существует безусловных препятствий к пониманию. Одним словом, он не требовал больше того, что получал и, смею думать - был всем доволен, хотя неуемность его натуры не давала ему покоя, он, видите ли, не мог долго находиться на одном месте, особенно в сельской местности. Так как же это? Где еще можно набраться новых впечатлений? За все время один раз от нечего делать ходил на пруд смотреть, как ловят рыбу. Знайте же, он ни разу не причинил мне беспокойства. Если вам хватит одной подушки, вторую за ненадобностью унесут…
-Пусть останется.
-Принимая во внимание, что вы гость его светлости, я – как и полагается – буду относиться к вам с большим почтением, сделаю, что могу, - хотелось бы видеть вас довольным, однако я не хочу закрывать глаза на некоторые особенности вашего появления в данном случае. Ах, да что уж там... скажу прямо, я советую вам подойти к делу широко, с разных сторон и в этом смысле, понимая меня, уподобиться тому благоразумному юноше. Вы же отлично знаете: кто следит за собой и знает свое место, тому и почет и уважение.
-Да ну? Вы стараетесь внушить мне мысль о покорности и так сказать, направить меня по тому пути, по которому прошел тот, немного склонный к мечтательности, юноша. Кто он, знаете?
- Как не знать. Ой ли! Я не готова была поверить, но меня убедили, что он племянник дворецкого. Вы его видели и вероятно решили, что он человек важный и влиятельный, если позволяет себе стоять перед хозяином руки в боки, никого-то он не боится, разводит сплетни, по всякому пустяку поднимает шум и льстит себе мыслью, что имеет подобающий вес. Так я вот что вам скажу: ради самого неба не доверяйте ему, он, конечно, сделает все, чтобы поскорее услужить вам, он…, ну, впрочем, довольно, всего ведь сказать нельзя.
-Знаете, он дал мне похожий совет в отношении вас.
-Да что вы! Вот видите, он вам уже начал морочить голову – воскликнула Эбигейл, повышая голос: не то удивленная, не то разгневанная, она подняла руку и потрясла пальцем в воздухе. – Нет у него страха божьего! Только зачем было выдавать того юношу за своего племянника? Что же мне, по-вашему, было делать? О том, как его здесь принимали, вам надо послушать самого герцога, он оказывал ему особое внимание. Возьмем вас, соблаговолите разъяснить мне, что и как…
- Скажите просто и ясно, в чем же дело! Что вы хотите от меня?
-От вас я ничего не хочу, ничего – не до того сейчас, - с тяжелым вздохом сказала Эбигейл, пристально глядя на меня. – Просто дошла до надобности узнать, как долго вы будите у нас.
-Я полагаю, две недели. Ну, а там посмотрим. Куда уехал тот юноша?
- Что мне за дело до того, куда он уехал, раз вы теперь здесь. Вот что непонятно: он приехал к Амброзу, из чего вроде бы следует, что дворецкий должен принимать его у себя, но тот ветреный юноша время проводил с его светлостью. Исчез он так же неожиданно, как и появился. Удовлетворительного объяснения этому еще никто не дал. Ах, что мне это! Итак, к делу. Я умею обходиться с гостями его светлости и все устрою, чтобы угодить вам. Уж потерпите! Можете не сомневаться, что он оказал честь достоинству вашему, предложив себя в друзья. Не часто с такими предложениями его светлость приходит в совершенное умиление. Мало ему этого, так он даже меня просил засвидетельствовать свое почтение вам – вот почему я прошу: только не возгордитесь. Вы ведь все понимаете, я обычно мало говорю о таких вещах, о которых я, по долгу положения, вообще не должна говорить, так вот, как только принесут простыни и скатерть я удалюсь, но Гризелла еще не пришла и я успею вам сказать, что вас принимают с тем почтением, которое оставляют для особ знатного происхождения, которым мы, скромные слуги, отвешиваем низкие поклоны. Я это говорю, потому что никак не могу успокоиться при мысли, что вас возвысили над всеми, будто вы королевский сын. Подумать только, объявились к полудню гостем у его светлости и уже приходитесь ему до некоторой степени другом! Зачем вы ему? Боже мой! Да из-за кого же я так сокрушаюсь?
-Что вы пытаетесь сказать?
-А что тут говорить? – с усилием, вздыхая, произнесла Эбигейл, вглядываясь в мое лицо своим проницательным взглядом. – Давно я не видела себя такой. Но посмотрите, как вы меня заставили нервничать!
-Я вас?
-А вы еще спрашиваете, кто? - воскликнула Эбигейл, указывая на меня пальцем. Затем, понизив голос, она печально и вместе с тем решительно сказала. - И даже если бы…., надеюсь, я вас не обидела. Дай только бог мне терпение да душевное спокойствие в этом деле. Смирение и терпение. То, что вы приехали из великой страны мира сего, ничего не значит, во всяком случае, для меня, хотя, быть может, это имеет важность для того, кто внушает мне почтение к вам. Я хочу, чтобы вы, с позволения сказать, неожиданный гость - янки, успокоили себя мыслью, что не имеете никакого преимущества перед тем юношей, - так что для меня вы не можете считаться важной персоной, пусть даже вы и приветливый, очаровательный юноша, столь преисполненный собой, мне кажется, я не сказала ничего лишнего, а если и сказала.… Но ведь надо же мне объяснить вам, чтобы облегчить все. Одним словом, хотелось бы мне, чтобы вы все-таки сознавали деликатность своего положения и в соответствии с ним, сочли бы себя обязанным считаться со статусом его светлости. Знайте же, что во всей округе нет ни одного человека, который хоть отдаленно мог бы сравниться с ним по своему происхождению, достоинствам и связям.
-Как же мне быть?
-А вот как, - на столе свод правил для слуг и посторонних. Хотя бы ради того, чтобы избежать неприятностей прошу их прочесть. Если кое-что не поймете, так скажите, я эти места вам растолкую обстоятельнее, чтобы хорошо условиться обо всем. Обратите особое внимание на пункт 7. Сами понимаете, правила нельзя нарушать. И еще одно: их не обсуждают. Вам ясно?
Ответа не последовало, и Эбигейл не замедлила продолжить все тем же повелительным тоном:
- Большая часть дня в вашем распоряжении: можете гулять, где вам заблагорассудится. Вокруг замка много красивых мест. В соседней деревне есть пивной трактир. В библиотеке для слуг имеется известное количество интересных книг, так что если у вас будет соответствующее настроение в свободное время, стало быть, можете употребить его с пользой. Никто не будет вас развлекать или кормить до или после обеда. Не дождетесь ни того, ни другого. Так вот, опоздаете на ужин, пеняйте на себя. На кухне после девяти часов вам ничего не дадут; если же по какому-нибудь непредвиденному случаю задержитесь, то могут и сделать исключение, единственно в угоду простой мольбе голодного, что, конечно, будет прямо-таки неслыханным делом. Прошу только – сторонитесь Амброза. От этого человека ждать нечего, он не такой безобидный, каким хочет казаться. Наконец, последнее, не вздумайте флиртовать с кем- либо из девушек. Обе непутевые. И впрямь, у одной длинный язык, у другой – ноги и обе постоянно ищут оправдание своего безделья. Парня, что сидел с вами и ел больше всех, зовут Огастин. В самом деле, никто и меньше всего он сам, не в состоянии составить вам подходящее общество. Да, чуть не забыла. На то время пока вы здесь в вашем распоряжении будет мальчик-слуга. Его комната на втором этаже. На тот случай, если вы окажетесь в затруднительном положении, кроме тех случаев, что я в расчет не беру, можете воспользоваться звонком, шнур висит возле кровати. И дабы определиться окончательно, мне придется сказать вам прямо – не тревожьте меня зря своими просьбами, разумеется, вы можете дернуть за шнур и ждать, что я поспешу появиться здесь в полной уверенности, что нужна вам, так и будет, но если окажется, что вы позвали меня лишь для того, чтобы я открыла окно, потому как вам вздумалось ни с того ни с сего подышать свежим воздухом, вы будите во власти такого гневного взгляда, который, поверьте, и мертвого поднимет на ноги!
Нужно ли говорить, что я смотрел на Эбигейл, как на женщину, которая мнит себя важной в своем высокомерном ничтожестве, и между тем, такие оригиналы бывают способны на крайний фанатизм. Это, естественно, не является одной из разновидностей сумасшествия, но указывает на фигуру, которая подчиняется его законам. Не сразу придя в себя после столь сокрушительного монолога, я сказал:
- Послушайте, любезная м-сс Троллоп, я собираюсь быть здесь не меньше, чем две недели, а может и больше к вашему неудовольствию и к моей радости жить в старинном замке. Так что наберитесь терпения и прошу вас не делать мне больше предложений ни в деликатной, ни в угрожающей форме и не пытайтесь во что бы то ни стало стать близкой мне, причем я даю вам понять, что на меня не действуют ваши взгляды, какими бы они не были: презрительными или строгими. Не знаю, что вы себе вообразили, однако вы обращаетесь со мной так, будто на мне лежит пятно какой-то вины.
Не много было сказано слов, но делая это внушение я, что называется, пригвоздил ее к стене. Негодование Эбигейл при мысли, что к ней относятся с явным пренебрежением, а это было ненавистнее всякого оскорбления и вместе с тем мучительное сознание своей беспомощности, нельзя описать. Да, она в обращении была строга и почтительна, но как я не смог заметить, что она проявляет ко мне уважение особого рода, как не понял, что ее строгость не выходит за пределы необходимого. Невольно я дал ей почувствовать свою независимость, в таких обстоятельствах, отверг робкую попытку проявить благосклонность и тем самым уязвил ее.
-Удивления достойно, как вы могли такое помыслить, - придя в себя, невозмутимо начала Эбигейл впадая в покровительственный тон. – Но именно потому, что по молодости лет вы так не сдержаны и неразумны я легко прощаю вам весь этот вздор, хотя хотела услышать другие слова, которые уладили бы все. Буду с вами до конца откровенной и, невзирая на то, что вы сейчас сказали, а всю эту чепуху я легко вам прощаю, уверяю, что не настроена против вас лично. Я нахожу вас честным и непосредственным юношей, разумеется, обладая такими качествами, столь ценными при всяких обстоятельствах, вы легко можете занять положение, которое поставит вас выше предубеждения и уловок недоброжелателей. Ясно и другое: единственной твердыней для меня является долг, в сравнении с этим все остальное кажется мне незначительным, и я могу даже утверждать, что чувствую прямо-таки безмерную потребность действовать в соответствии с ним. Не всем здесь нравится, как я веду дела: против меня восстают Амброз, который только и ждет, когда будет командовать, Огастин,в лице которого набирает силу оппозиция, да мало еще кто. Оба стоят друг друга, они называют меня не по имени, а гадюкой. Пусть эти интриганы недовольны тем, что я первенствую в замке, затевают бесполезный шум и не поддерживают мои планы из-за того, что они не совпадают с их собственными, пусть они мне не оказывают подобающее уважение - я не нуждаюсь в милости ограниченных и бестолковых людей, поглощенных исключительно своими мелкими делами. В конце концов, ни во что серьезное это не вылилось. Дело ведь не только в том, что мы с Гризеллой расходимся во взглядах на политику и религию, она питает нежное чувство к дворецкому, поэтому не пойдет против него, а Марта, из болтовни которой вылезает непроходимая глупость, не упускает случая дать мне понять, что стоит за меня – опять неясно, как именно. Вот так получилось, что надежной опоры у меня в замке нет. Не по своей воле я избрала этот замок местом своего постоянного пребывания. Вот уже без малого двадцать лет я живу здесь, во всем проявляя себя преданной служанкой их светлости, и хотя мне отвели почетное место за столом, а мое усердие ставится в образец другим, я не стремлюсь обеспечить себе приятную жизнь, хотя могу, стоит мне только захотеть, но я веду жизнь, которая мне подобает в соответствии с суммой моих обязанностей, и не жалея сил стараюсь обеспечить порядок и, какой ни на есть, покой в замке. Чтобы не было хуже, в конце концов все должно идти своим чередом. А между тем готовятся большие перемены. Говорю все это без всякого намерения произвести на вас определенное впечатление. Вот так. Разговор получился чрезвычайно откровенным, не правда ли? Слышу шаги на лестнице. Это должно быть Гризелла, несет простыни.
Глава 2
Мой сон был глубоким и длился примерно от полуночи до девяти утра. Я проснулся после этого часа и, не зная о том, еще какое-то время спокойно лежал в постели. Была суббота. Из окна лился густой и тусклый свет. Кругом царило ленивое безмолвие: вставать не хотелось, я наслаждался блаженством удобной и теплой постели, мечты уносили меня в небеса, а мысль, что я опоздал на завтрак, даже не приходила мне в голову. Я разглядывал обстановку комнаты и думал о себе. Как замечательно сложились обстоятельства моего путешествия! Мог ли я вообразить в спокойном сознании, что буду ночевать в старинном замке, а его владелец, утонченный аристократ герцог Гулд станет моим другом. Но это со мной случилось! И разве не удивительно, что мы сразу прониклись взаимной симпатией? Чарльз никак не подходил под романтически стилизованный образ английского аристократа, который у меня сложился вопреки тем впечатлениям, которые я вынес, читая Теккерея, Филдинга, Вальтера Скотта и Байрона. И принимая во внимание, что ему были свойственны характерные черты, как то; утонченность, респектабельность, достоинство и дух гедонизма, презирающий непомерные расходы, он являл собой фигуру, которая по своему духовному складу совмещала в себе сразу несколько психологических типов. Еще я подумал об Эбигейл. Собственно, подумал, что такое викторианское чудо можно встретить лишь в этом богом забытом месте, каким я нашел Дорвард-парк. Тут я почувствовал голод, и это слово обрело содержание, как гробовая доска – безрадостное. Мысль, что я остался без завтрака была мне противна. Неужели меня обрекут на голод, когда на кухне полно всякой еды? Оставаясь в постели я стал раздумывать, как мне быть. Но спас меня красивый ангел по имени Дин. Вот как это произошло. В ту минуту, когда я во второй раз перечитывал то место в своде правил, где говорилось, что гость, опоздавший по любой зависящей от него причине на завтрак или обед или ужин по той же причине останется без еды (последние три слова были напечатаны большим буквами), раздался стук в дверь и на пороге возник стройный и нежный мальчик, лет четырнадцати. В руках он держал тарелку с едой, накрытой салфеткой. Быть не может! Мне принесли завтрак. И кто? Мальчик-слуга, в спокойных и ясных глазах которого лучилась трогательная невинность.
-Как это к месту, - обрадовался я. – У меня от голода уже начал мутится ум.
-Тогда ешь, - сказал Дин. Пока я ел, он, не переставая, смотрел на меня и улыбался.
-Чему ты улыбаешься?- спросил я.
Дин пожал плечами и вместо ответа спросил:
-Как твое имя?
-Когда поем, вспомню.
-Ты Обри, можешь не вспоминать. Мне сказал Чарльз, как тебя зовут.
-Чарльз!? Ах, да герцог Гулд. А как тебя?
-Дин.
-Это твое полное имя?
-Я Филипп Уортли из Бейзингстока. Но Чарльз зовет меня Дин, потому что его знакомая Хлоя, она умеет гадать по руке, сказала, что у меня было четыре жизни, в последней, как выяснилось, я был сыном казненного лорда Ловата, а моя мать была дочерью спитфилдского мануфактурщика, у нее не было возможности преуспеть в жизни – она умерла от водянки, когда мне было четыре года. Почему Чарльз зовет меня Дин - я не знаю. Спросите у него сами.
-Знаешь, что удивительно? И в этой жизни ты тоже сирота.
-Пойдем гулять?
-Куда?
-На болота.
-Разве там гуляют?
-Вообще-то нет, но это единственное место, где можно не натолкнуться на ведьму, я имею в виду эту чертову Эбигейл.
-Пойдем, если другой альтернативы нет. Мне просто не нравится сама мысль блуждать по болоту.
-Не беспокойся, мы будем гулять по тропинке вдоль канавы, тебе понравится там, в это время на болотах цветет вереск.
-Говоришь, там мы не столкнемся с Эбигейл. Тебе не кажется, что викторианская педантичность высушила все ее чувства, но не лишила уверенности в себе?
-Чувства у нее? Да она высохшая моль!
-Она, что постоянно находится в замке?
-Да, выезжает лишь по базарным и ярмарочным дням. Ты богатый?
-Нет, я даже не могу похвастаться своим знатным происхождением.
-Но ведь ты американец!
-Разве это делает меня особенным?
-Ты скоро уедешь?
-А вот и нет. Я собираюсь провести здесь две недели, а может и больше.
-У тебя есть женщина?
-Что?
-Ну, ты таскаешься за какой-нибудь девушкой?
-Что за слово! И потом, это тебя не касается. Идем гулять. Я уже насытился ветчиной и хлебом.
Из моей спальни мы прошли в башню, при нашем появлении в воздух взлетели голуби с привычным для них шумом и, потеряв несколько перьев, расселись на окнах; внутри было темно, так что пришлось смотреть под ноги. Я не успел как следует осмотреться, Дин, хорошо все здесь знавший, взял меня за руку и повел по винтовой лестнице вниз. Уже из темного и сырого помещения, где пол был ниже уровня земли, мы выбрались через узкий проход к полуоткрытой двери; под ней часто скапливалась вода, а густая трава давала тень, поэтому низ двери прогнил, петли заржавели, и открыть ее не было никакой возможности. Вслед за Дином я, все еще взволнованный, протиснулся в узкий проход и мы выбрались наружу. Старые деревья почти вплотную подступали к башне и покрывали ее северную сторону сплошной тенью; земля здесь была влажной, что впрочем, создавало благоприятные условия для крапивы, пышно росшей вдоль замшелого фундамента. Место, где я оказался, при первом же взгляде вокруг, было глухим, уединенным и представляло собой лес более или менее больших деревьев, которые при всей своей кажущейся разнице были тем не менее однородны; мощный, прямой ствол покрытый корой темно-коричневого оттека, крупные, продолговатые листья и лежащие на поверхности земли толстые перепутанные корни указывали на вяз - я распознал его по этим признакам. Неподалеку от башни пролегала тропинка; узкая на изрядном протяжении она вьется к востоку по склону между вязами, которые перемежались дубами, то петляя между ними, то опускаясь в овраги, потом постепенно расширяется, принимает вид дороги и, уже открывшись взору, тянется между ровным краем леса с одной стороны и обширным полем с другой. Неожиданно я увидел герцога Гулда: он стоял на краю канавы, заполненной водой, и, заложив назад руки, смотрел вперед.
-Прости, что оставил тебя вчера, - сказал он, когда мы обменялись рукопожатием. – Я не сразу отделался от Фаустины, потом у меня было одно дело на ферме. Вернулся поздно.
-А кто эта Фаустина?
-Ты ее видел вчера. Даже успел познакомиться.
-Но ведь ту женщину звали Хлоя.
-Да. Настоящее имя Хлои Фаустина. Она находит его плебейским, непоэтичным, - говорил герцог с полунасмешливой серьезностью - Полагает, что это имя не подходит к артистической безучастности, присущей ей как бы от рождения.
-Я думаю, и ты, Чарльз, согласишься с тем, что она странная женщина. Я до сих пор слышу в ушах пронзительные переливы ее голоса. Кто она?
- Я готов согласиться, что, вообще говоря, ее можно назвать странной, - да, совершенно странной! Я-то ее знаю. У нее свои взгляды на все. Тебе стоит послушать, как она читает стихи, тогда в ней воскресает натурализованная француженка, и ты поймешь, надеюсь, до какой степени талантливая женщина может на сцене выглядеть странной в образе Сары Бернар. В следующую субботу ее принимает у себя леди Кредок. Будет музыкально-поэтический вечер. Пойдем обязательно. Но, будь готов.… В прошлый раз у Джаффардов она декламировала Демосфена на древнегреческом, а потом дала стихотворное сопровождение его речи в духе Попа. Представь себе, она играет девушек в женских драмах. Хлоя презирает свой возраст, ей уже сорок два. Она падает в обморок при одной мысли о старости. Смешно было, когда она потребовала роль девственницы в пантомиме «Уловки любви», которая давалась дивертисментом к комедии Конгрива в «Друри-лейн». Режиссер ей сказал: « Вы же знаете, что все хорошо на своем месте». Однако Хлоя пустила в ход интриги и добилась своего – она перевернула вверх ногами весь театр. С букетом полевых ромашек она порхала по сцене в лиловых чулках.
-Она живет где-то здесь?
-В трех милях отсюда. Хотя предпочитает жить в Лондоне: у нее красивый дом в палладианском стиле в Хэймаркете. Там она принимает для возвышенного духовного общения поэтов, художников, писателей и артистов. В друзьях у нее одни мужчины. Без них она не мыслит прожить и дня. Почему ты ей не понравился? Что она в тебе увидела!
-Мое нерасположение.
При этих словах я обернулся и стал смотреть по сторонам.
-Не понимаю, со мной был Дин, но он исчез.
-Он сам о себе позаботится. Прогуляемся? Как тебе твоя спальня, подходит? Мне не нравится, что тебя поселили в самой глухой части замка. Все тебя устраивает? Если нет, скажи мне.
-Вполне. Там тихо.
-Я не могу допустить, чтобы ты испытывал хоть какие-нибудь неудобства. Между прочим, как тебя встретила Эбигейл?
-Она тоже странная. Как получилось, что тебя окружают такие женщины?
-Не знаю, может я притягиваю необычных людей, себе же на благо. В самом деле, большинство людей до известной степени тупы, грубы, пристрастны. Их представления неполны и приблизительны. Они судят о жизни, какой ее видят из подвального окна. Эбигейл, совсем другая, она не от мира сего. Ее здесь никто не любит, но поверь мне, в ней есть чем восхищаться.
- Она чопорная, сухая и бездушная. Что тут потустороннего?
-Она вся пропитана спартанским духом. А как встретили тебя слуги? Никто из них до сих пор не видел американца.
- Молчали и все как один избегали смотреть на меня. Даже боялись ответных взглядов. Мне пришлось пережить такую неопределенность положения, при которой лучшим выходом было уйти в свою спальню. Не удивлюсь, если окажется, что Эбигейл пригрозила им всем, что за любой вопрос ко мне они получат двадцать ударов плетьми.
Чарльз рассмеялся.
-Тебе не надо перед ними гнуть спину. Я попрошу Эбигейл не доставать тебя по пустякам. Если она все же посмеет обидеть тебя, тогда я у нее всю дурь вышибу из головы.
-Все равно не понимаю, чем я ей не угодил. Да и Хлое я тоже не понравился.
-Не беспокойся. Ты не лишен способности привлекать к себе женщин. Но не таких, как они. Вот и все. А что до Эби, то она просто не любит гостей. Добавь к этому, что она сварливая, фанатичная фурия и людей чтит гораздо меньше, чем падших ангелов. Но мне следует отдать ей должное: за все годы она отличилась безупречной службой.
Слушая Чарльза и следуя за ним, я то и дело оглядывался на ходу по сторонам, любуясь видами, которые находил унылыми, но своеобразными, - с любопытством, но вместе с тем с какой-то грустью я подвергал осмотру все, что попадалось мне на глаза.
-Тебе что-то не нравится, - спросил Чарльз, и с лицом серьезным и озабоченным, сжал мою руку выше локтя.
-Нет, что ты! Иногда я перестаю понимать, что происходит. Я еще не могу поверить во все это. Замок, ты, эта изгородь вдоль дороги, эти сельские виды, так или иначе пропитанные духом патриархальной Англии, о которых так мечталось, когда я читал английские романы: вот я иду по этой дороге с самим герцогом довольный, но в том потрясении, в какое он повергает души ублаготворенных им.
-Как же красиво ты сказал: « но в том потрясении, в какое он повергает души ублаготворенных им». Если бы тебя услышала Хлоя, она бы восхищенная упала к твоим ногам, а потом в отчаянии от своей бездарности заколола бы себя серебряной шпилькой, которые носит в волосах. А, жаль, что она тебя не слышала. Хочешь, я уговорю ее позировать тебе.
-У меня нет с собой ни красок, ни бумаги.
-Что из того. Я привезу все, что тебе надо из Лондона. Я тут подумал, может, нарисуешь с меня портрет.
-Могу, если ты хочешь. Ты незаурядная личность. Все в тебе говорит об этом. У тебя есть к чему-то талант?
-Было кое-что. В детстве я рисовал, играл на скрипке, даже пел. В юности писал стихи.
-О чем были стихи?
-Ну, там о бабочках, лунном свете, радуге. Тогда такие вещи вдохновляли меня, пока я не стал томиться любовным чувством и вздыхать. Сейчас мне тридцать два, я давно потерял потребность в самовыражении, стал циничным и ленивым. Что мной движет, не знаю. Я жалею, что не родился каких-нибудь сто лет назад, когда английская аристократия купалась в блеске своего великолепия. Нынешнее время мне не по вкусу - я всеми способами стараюсь уклониться от него. Мне кажется, у нас с тобой есть что-то общее.
-Может и есть, только собственно что?
-Мы оба тянемся к тому, что красиво. Я хочу с тобой напиться.
-Мне что, давай напьемся.
Так, ведя непринужденную беседу, мы по большой дороге дошли до перекрестка и взяли влево: отсюда неровная дорога, обсаженная старыми деревьями с обеих сторон, привела нас к пруду. Солнце еще не поднялось достаточно высоко, поэтому из-за высоких деревьев, росших по берегу, на поверхности воды лежала тень. Мы уселись на белой скамье, на солнечной стороне берега и, вытянув ноги, стали смотреть на воду.
-Что ты думаешь о Германии? – спросил герцог.
-У них там какой-то национальный идеотизм. Говорят, что Гитлер боготворит Вагнера. Они оба стоят друг друга – два маньяка, помешанных на совершенстве. Дело идет к войне.
-Старая добрая Европа доживает последние мирные дни. Что ж, было время пиратов, заокеанских колоний, промышленного подъема, биржевых спекуляций и активного строительства. Люди научились обходиться без убеждений и совести. Сейчас почти все аристократы помешаны на получении прибылей. Они лгут и мошенничают с тем рвением, с каким раньше стремились утвердить в веках собственный род. Алчность и ложь самые устойчивые вещи в мире, а приспособление – самое привычное состояние человека.
-Ты рассуждаешь, как пессимист.
- При этом я жизнерадостнее всех на свете. У меня нет убеждений, то есть, я хочу сказать, что слишком люблю жизнь, чтобы страдать за идею. Поверь, у меня не каменное сердце: я могу сострадать, но в разумных пределах. Я ни за что не поеду в Африку, чтобы два раза накормить обедом тех, кто голодает пять дней в неделю. Я презираю большую часть человечества или тот сброд, который ее составляет: мусульмане, вьетнамцы, китайцы, африканцы, арабы. Все они паразиты! Пусть живут в своих грязных, темных, убогих домах со своим пещерным религиозным фанатизмом.
- Но они наводнили Европу. Что с ней будет? – спросил я.
И получил соответствующий ответ:
- Своим присутствием они нарушают естественный порядок. Достаточно сказать, что те, кого мы вытащили из беспросветной тьмы и убожества теперь сытые и довольные садятся с нами за один стол и требуют для себя равных прав и неограниченных возможностей. Неужели кто-то серьезно полагает, что помогая им, мы делаем добро дело. Рано или поздно все это обернется сокрушительным злом. Недолго осталось ждать, когда те, кого мы спасли от нищеты и притеснений пойдут, вооружившись палками и камнями, громить английское посольство или начнут бороться с нашей системой, которая дала этим дикарям материальные блага европейской цивилизации. Почему мы должны их терпеть у себя дома? В конце концов, в природе каждый вид разделен от другого и существует сам по себе. Разве ласточки летают в одной стае с воронами, а львы и крокодилы охотятся вместе?
-Никак не скажешь, что ты не прав, - сказал я и поднялся вслед за герцогом со скамьи. – Признаться, я немного шокирован твоим презрением к низшим человеческим существам.
-Их претензии порождают зло!
Мы выбрались на заброшенную дорогу, по которой пришли сюда и двинулись прямо, на повороте мы свернули на другую дорогу, пролегавшую вдоль невысокой, местами разрушенной, каменной ограды. Часть пути мы прошли молча.
-В свое время я видел жизнь в розовом свете, - заговорил Чарльз. – Потребовалось повзрослеть, чтобы понять тщету и бессмысленность собственной жизни.
-Жизнь и в самом деле прекрасна! – не согласился я.
-Если не думать, что каждый миг завершается смертью. Боюсь даже подумать о предстоящей старости, о том, что время мое с каждой минутой убывает, и однажды я превращусь в немощного старика, лицо мое будет в морщинах, взгляд потускнеет, а тело станет дряхлым и безжизненным. Вот ужас, который не выразить никакими словами! Боже, что нас ждет?
-Всего лишь неизбежное увядание под солнцем, - прибавил я, устремляя задумчивый взгляд вперед.
-Любопытно, как старый человек смотрит на того, кто моложе его. Что он чувствует?
-Так спроси у него.
-И спрошу. Вот дом привратника.
Тут как раз мы подошли к маленькому кирпичному дому. Достойно внимания, что он был окружен запущенным садом. С порога расположенного на углу фасада, мы попали сразу в широкую, полутемную комнату. Запах был такой, словно мы попали в подвал, где на сыром полу гнила куча тряпья. Возле окна, сложив на столе руки, неподвижно сидел дряхлый старик, должно быть поглощенный собственными мыслями. Его седые волосы и борода были растрепаны, он был в серой рубашке, которая своим покроем напоминала военную одежду и в коричневых штанах, перевязанных веревкой. Он сидел в глубокой задумчивости, сидел, потом поднял голову, пошевелил губами и поглядел на нас как раз в тот момент, когда Чарльз кашлянул, чтобы дать о себе знать. При виде герцога старик потянулся за суковатой палкой с засаленной ручкой, чтобы подняться, но Чарльз жестом остановил его и старик повиновался.
-Прошу тебя, не вставай. Сиди, - потребовал он.
-Да как же я могу в присутствии вашей светлости! – удивился старик, окинув взглядом комнату. – Что за дело! Я когда увидел вас, сэр, остолбенел и подумал про себя: « Уж не призрак ли вы какой-нибудь?»
С этими словами старик сложил крестом руки на груди и поклонился. Я посмотрел на герцога и увидел, что взгляд, который он бросил на старика в ответ на его поклон был насмешливым.
-Послушай, я задам тебе один вопрос и сразу же уйду. Вопрос такой: когда ты видишь кого-либо, кто в отличие от тебя молод и здоров, что ты чувствуешь при этом?
-От души завидую, милорд. Так и знайте. Я смотрю на свой преклонный возраст, как на большее из постигших меня несчастий.
-Вот как. Старость, по-твоему, самая большая неприятность?
-Я, Ваша Светлость, придерживаюсь того же мнения, что и вы в любом вопросе.
-Хорошо, приходи к Амброзу за бутылкой вина.
-Ах, добрейший господин! Мне не по силам это. Отсюда до замка не близкий путь, мне туда не добраться до вечера – ноги слабые, уже не держат меня. Два дня назад шагнул с порога, так сразу же и упал.
-Я распоряжусь, чтобы тебе принесли. А где твоя жена?
-Так она уже как пять лет назад, протянула ноги.
-Что сделала?
-Испустила дух – от кровоизлияния в мозг, - пояснил старик. – Стало быть, загнулась моя жена.
-Мне жаль, - сочувственно сказал Чарльз. – Как ты себя чувствуешь?
-В целом, сносно. Еще на ногах стою и глаза видят. Вот только ноги усохли, да руки ослабели, но с божьей помощью, кое-какие дела делаю. Лучше не спрашивайте. Вы еще молоды и такую жалкую жизнь не можете себе представить.
-Сколько тебе лет, почтенный старик?
-Через три года девяносто будет. Но вряд ли протяну до этого возраста. Силы мои иссякли, стал я совсем негодным. Доставляю одни только хлопоты сыну: вынужден зависеть от него полностью.
Старик умолк и, кажется, впервые посмотрел на меня. От его маленьких потускневших глаз к вискам разбегались глубокие морщины. Густые брови почти закрывали глаза, которые и без того были едва заметны под тяжелыми складками век. Но несмотря на удручающий вид его бескровное лицо казалось доброжелательным. Грубой рукой он провел по столу, сокрушенно вздохнул и глухим, отрешенным голосом сказал:
- Живу я плохо, бедно, а жить то все равно хочется.
-Так и живи себе на радость!
-Какая там радость, ваша светлость? Где ее взять? Голова моя бедная, кружится постоянно, память уже утратил, забываю, где что лежит, еще ревматизм: боли в руках просто непереносимые. Раньше к старым людям относились куда терпимее, не так, как сейчас; с пренебрежением, с раздражением. Ведь меня даже за стол не пускают, кормят отдельно, в углу, точно собаку. Обидно до слез, я за этим столом всю свою жизнь просидел, а теперь нельзя – сын не позволяет, говорит, что я грязный, что воняет от меня. Люди изменились. Раньше всякий работник старался отличиться безупречной службой, а что теперь – все поголовно бездельники. Землю обрабатывают плохо, все куда-то торопятся, все стали продажными и ленивыми и все чаще оставляют в наследство детям долги. Нынче праздник и не праздник вовсе. То ли дело раньше: на ярмарках народ пел и плясал вовсю. То славное время миновало. Никто уже не задумывается над тем, как сделать свою жизнь полезной и непогрешимой. Несправедливости стало больше, а благочестия меньше.
-Тебя сын обижает?
-Ворчит часто. Когда он дома, я ему не мешаю – забьюсь в угол и сижу тихо, точно мышь под полом. Я никакого внимания к себе не требую. У меня, как не верти, а кроме него и нет никого. Но я терплю свою долю. С годами растерял все свои силы, пришел к тому, что живу без пользы, а потому терплю притеснения.
-Мне уже давно следовало навестить тебя, - сказал не без досады Чарльз. И в его голосе прозвучал укор самому себе.
-Вам меня? – изумился старик, поднял глаза и, посмотрев в лицо герцога, с волнением сказал - Благослови вас Бог за то, что снисходите к убогой немощи своих бывших слуг. Вы знамение его благости!
-Хорошо, считай это во славу божию. Скажи, тебя сын притесняет?
Старик не сразу ответил. Он поднес указательный палец к губам и издал какой-то грудной звук, громко прозвучавший среди молчания. Затем с видом усталым и измученным устремил взгляд в окно.
-С ним просто беда, - вполголоса сказал он. - Грозит выгнать меня на улицу. Это мой дом. Но я здесь человек посторонний. Что ж, буду жить на улице, с ним не многим лучше. Приведет женщину, а меня из дома гонит. Иду в курятник, там и сижу, бывает до самого утра, а ему безразлично, что мне холодно, что есть хочу.
-Выходит, тебе голодать приходится?
-Сказать вам не берусь, что голодаю – вполголоса начал старик. – Еда какая-то есть всегда. Ну, чем я питаюсь? Да чем Бог пошлет; овсянкой, яйцами, картофелем, рыбой. Стол у меня скорее простой, чем скудный. Огорчительнее всего, что сын меня за отца не считает. Приходит с работы усталый, злой, меня не замечает, не разговаривает, будто и нет меня. Ежели спрошу что, ответ всегда один – «отстань». Пусть я старый стал, дряхлость моя неприятна ему, так я что и права не имею теперь на вежливое обращение? Но я становлюсь утомительным. Что вам до всего этого! Ваши дела выше моих и достойны вашей светлости. Хотя память моя никуда не годится, а я до сих пор помню то, что другие давно забыли. Припоминаю, милорд, как вы кудрявым мальчиком резвились с другими детьми в яблоневом саду, как леди Гулд уезжала в город в экипаже, запряженном четверкой лошадей, а я стоял у дороги и кланялся вслед. Да благословит вас Бог, сэр, Вас и Вашу матушку. Не сочтите за труд, милорд, передайте при встрече, что старый Томас Хэзлит помнит и будет почитать Ее светлость покуда жив сам. Раньше я был хорошим слугой, с любой работой справлялся: был мастеровым, плотничал, ходил за плугом, помогал каменщику, работал суконщиком. Теперь в развалину превратился. Таков земной удел. Выход один – отбыть в мир иной.
-Не торопись с этим. Ты ведь сказал, что хочешь дожить до девяносто лет.
-Я это сказал? Неужели! Я влачу жалкую, ничтожную жизнь. Видит Бог, устал уже. Еще три года быть привязанным к стулу. Лучше умереть, как это сделали жена и моя Молли.
-Твоя Молли?
Старик кивнул, косо разинул рот и, вытаращив глаза, сделал трясущейся рукой малопонятный жест.
-Я про то, что не хочу окочуриться, как моя корова Молли.
-Будь бодр, расскажи, как она окочурилась?
-А что тут рассказывать, дело-то простое: бедное животное почувствовало свою смерть и перестало пить и есть. Два дня так прошло: я при всяком удобном случае заглядывал в сарай, приносил ей яблоки и мятные пряники, но Молли даже не смотрела на них. Она стояла широко расставив ноги и повесив голову покорно дожидалась смерти. В соответствии с этим было мое настроение. Мне хотелось поговорить с ней. Но что скажу я ей? Я был безутешен, и если бы Молли понимала язык человеческий и все вообще, то нашлись бы у меня слова утешения и для нее. Человек боится смерти и всеми силами противится ей, а корове хватает ума принять смерть с непоколебимой покорностью – явление удивительное. Видали вы такое? Разве вам не покажется, что такое смирение, дошедшее до крайности, чрезмерно, противно и указывает на безрассудство? Утром она издохла. Я закопал ее в конце сада и сотворил над ее могилой молитву. Вот вся история. И ничего к этому прибавить.
-Возможно ли! – воскликнул Чарльз. – Ты прочел молитву над трупом коровы?
-Не возможно, сэр, а так оно и было, - возвестил старик. – Удивляетесь, пристало ли мне скорбеть о скотине? В жизни, как не считай, я дважды читал заупокойную. В первый раз жене, когда она отдала Богу душу. Потом помолился за невинную душу Молли. Ну и что из того! У меня не хватает слов, чтобы сказать, как я любил свою корову, не меньше, чем покойную жену. Пять лет прошло, а я до сего дня помню, что она выделывала, как вопила и топала ногами. Женщины без этого не могут, наверное. У нее только и разговору было, что про цены на рынке. Не мог я с ней справиться. Больше пирогов и копченой селедки любила она посплетничать с женой дворецкого, того, что был до Амброза. Та, кстати, не то три, не то четыре года назад, тоже вознеслась на небо. Она тоже не считала заботу о муже первейшим своим долгом. А встречалась она с моей женой, чтобы получить от нее сведения о том, что и где случилось, кто кому что сказал и все такое, при этом они не упускали случая выставить лакея сэра Гулда развратником, а самого герцога мотом. Сомневаюсь, что они с м-сс Афрой расходились во взглядах на меня, так что меня, как это у них принято, они вспоминали лишь для того, чтобы выставить в неприглядном свете. Наблюдая за ними, я обнаружил, что обсуждая какое-либо событие со всех сторон, они своей болтливой манерой удивительным образом, истощали его. Не проходило недели, чтобы они не встречались на мою беду в этом доме. Усядутся, бывало на пороге под вечер, точно две упитанные гусыни и до самой темноты рассуждают только о вещах, до которых можно додуматься без большого напряжения ума. Они и мне морочили голову всякой чепухой. Но что всего хуже, чешут они свои языки и злословят в то время, когда я прихожу домой с поля и дела им нет до того, что я сижу голодный и дожидаюсь, когда жена мне пожарит телячью печенку. Жду час и больше ждал, когда эти трещотки умолкнут, но терпению моему приходил конец, когда боль в пустом желудке становилась нестерпимой. Открою окно и говорю жене, не показывая свое недовольство, чтобы домой шла, а она, да будет с ней милость божья, как ни в чем не бывало, тряхнет головой и таращит на меня такие глаза, будто сказать хочет: « Я тебе ничего не должна и ничем не обязана». « Вместо того чтобы болтать о том, чего ты не знаешь и попусту тратить время, ступай и приготовь ужин» - говорю, а она в ответ на это: « Не видишь, я занята. Никто, даже Эбигейл, не может делать двух дел сразу», потом поворачивается и невозмутимо продолжает: « Вздор, милая! Надо бы…», а та ей: « Ты, кумушка, лучше послушай, что я тебе скажу». И пошло и поехало. Надобно сказать, что я не мастер угождать потому и пускал в ход уговоры и угрозы, но она от них только отмахивалась. Однако стоило мне пообещать ей какого-нибудь подарка либо денег на покупку шелковых лент либо раскрашенного полотна, она тут же бросала свою болтовню и шла на кухню. Вот такие издержки были у меня. А жена моя была так скупа в отношении себя, что не покупала платья, не износив старое до дыр. Достаточно сказать, что после ее смерти остались юбка с кринолином, две нижние юбки, ночной чепец, белый передник, галоши, фланелевое платье, чулки и три рубашки, я отдал их приюту для бедных. А, ну их этих женщин! Какой дьявол их поймет.
-Это, несомненно, интересная история, но про корову мне понравилось больше, - сказал Чарльз, пряча улыбку. – Будем все же надеяться, что Молли нынче пасется на райском пастбище, а твоя жена, не найдя на небесах жену дворецкого, утомляет других своей болтовней. Тебе, Томас, я желаю хорошего самочувствия на долгие годы. Живи сто лет!
-Избави Господи!- махнул рукой старик. – Этого еще недоставало! Вся жизнь моя стала длительной и постоянной мукой. Удручают болезни, голова кружится от всякого движения – по этому можно судить, как мало я дорожу своей жизнью. Какой толк от нее? Из-за ослабевшего зрения читать не могу, потому целый день сижу и из мутного окна своего смотрю на дорогу. Это мое единственное занятие. Смотрю на дорогу и удивляюсь, ведь лет эдак тридцать назад по ней катили экипажи, кареты, повозки, а сегодня проезжают мимо машины.
Слушая старика, я удивлялся тому, что его рассуждения отмечены здравым смыслом, а в его обиде на сына, сквозили горечь положения и ущемленное человеческое достоинство.
Уходя, Чарльз протянул старику руку, но тот сделал попытку уклонится:
-Нет! – воскликнул он. – Это уже слишком! Не грязните свою руку. Подумайте только, что я дряхлый, жалкий, ничтожный человек: я противен самому себе. А вы еще хотите прикоснуться ко мне! Да благословит вас Бог за ваше милосердие.
Чарльз на мгновение был поражен, услышав столь неожиданное возражение. А может, он был удивлен своим великодушным порывом.
-А ты подумай, как велико милосердие Бога, который внушает мне уважение и сочувствие к тебе, - сказал он. – Я все же хочу пожать твою руку.
Глаза старика увлажнились.
-О я счастливый, - воскликнул он и протянул свою трясущуюся руку.
-Тебе будут каждый день приносить еду из замка, - уже в дверях сказал герцог.
Старик вздрогнул, в глазах его появилось выражение радости и какой-то нетерпеливой озабоченности.
-Да благословит вас бог!
-Бог уже благословил меня, - с усмешкой отозвался герцог.
-Ваша светлость! – воскликнул старик и поднялся на ноги, чтобы отвесить глубокий поклон. – Могу я вас просить о другом? Угодно вам сделать мне одолжение?
-Разумеется, проси, что хочешь.
– Было бы хорошо, если бы, если бы. … Тут старик ртом сделал глубокий вздох, надул щеки, выпустил из себя воздух и смущенно продолжил с волнением, которое прерывало голос. - Ну, словом, хотел бы я вместо еды получить бутылочку животворящего нектара. Это то, что мне больше всего хочется. Вы меня понимаете, - виски приносят некоторое облегчение, пожалуй, даже и радость, да, радость большую. Я положительно знаю, что один-два стакана дают какое-то облегчение моим телесным мукам, и в полном смысле слова устраняет невыносимую печаль, снедающую меня. Я бедное существо, которое сознает свои годы. У меня в душе ад, когда я трезвый, а напьюсь, становлюсь совсем иным. Скажу вам даже больше: им я готов отдать весь остаток дней моих.
-Хорошо, я скажу Амброзу. Тебе будут приносить бутылку виски каждую неделю. Пей, сколько хочешь…. не было бы хуже.
-Наконец-то милый Обри я буду иметь удовольствие отобедать с тобой, - сказал герцог, минутой спустя, на обратном пути в замок.
Разумеется, меня это обрадовало. И скажу почему. При одной мысли о вчерашнем приеме, оказанном мне Эбигейл, перед моими глазами вставала с одной стороны она сама; недовольная и надменная, что вообще было для нее обычным состоянием в разных местах, следовательно, ее неистовство не было направлено против меня, с другой – слуги, которые своей холодной безучастностью и без того усложнили мое положение. Ко мне отнеслись будто я незваный и второсортный гость. Меня даже поселили определенно не в самую лучшую спальню. Так это или нет, но я нашел такой прием слишком холодным и истолковал его в дурную для себя сторону. Таким образом, оказываясь перед необходимостью говорить, что меня приняли учтиво, но без излишних любезностей, я не могу обойти молчанием, что приглашение герцога мне польстило чрезвычайно. Впрочем, это слово не выражает всего того, что я чувствовал и что вообразил. Не потому ли, возвращаясь с герцогом в замок, я был вдохновлен перспективой обедать в парадной столовой вместе с ним. Учитывая, что у герцога общительный и веселый нрав, разговор за столом внесет много приятного в наши отношения. Когда мы вошли внутрь герцог увидел через дверной проем горничную Аду и позвал ее с тем чтобы отослать за Эбигейл. Но она сама возникла неожиданно перед ним. Ее немало огорчила новость, которую она только что узнала, и прежде чем герцог успел отдать распоряжение по поводу обеда, Эбигейл с озабоченным видом уведомила его, что звонил доктор Уилсон и просил незамедлительно приехать. В последней фразе ее голос дрогнул, появились волнующие вибрации, дыхание стало учащенным:
- Леди Маргрэт уже второй день ничего не ест, говорит, что у нее отвращение к еде, а ведь она и без того что ни день все больше слабеет – она в конце концов либо образумится, либо повредит себе ( последовал вздох) … эти проклятые сквозняки. Марта сварила суп из самой откормленной курицы, который я, не боясь прибавить себе лишнюю заботу, самолично повезла в Норберт хилл; все бы на том и кончилось. Но… леди Маргрэт есть отказалась по причине чрезвычайной слабости, она была бледна больше чем когда-либо; видя, что дело принимает плохой оборот, я сочла своим долгом позвать доктора. Он сейчас с ней и ждет вас.
-Я что ему нужен? Он же доктор, никудышный, конечно, но он на то и поставлен, чтобы лечить.
-Вы же знаете, что все эти клизмы и лекарства ей опротивели, она не хочет слушать Уилсона, но стоит вам сказать два слова…. Единственно, что могло бы воздействовать на леди Маргрэт, - это ваше внушение. Вам она обязательно подчинится.
-Да что вы? Я все же не уверен, что смогу образумить ее.
-Только бы заставить ее съесть одну ложку супа, а там можно быть уверенным, что у нее появится аппетит. Вы же положительно знаете, как бывает в таких случаях: всякие упрямства возникают из-за пустяка – все это легкомыслие, женские глупости!
-Я лучше позвоню Уилсону. Он ей поможет, ведь для этого он там.
-Да ведь вы сами изволили сказать, что он никудышный, я бы послала его в какое-нибудь место подальше. Что за необходимость была епископу пристроить его. Пусть он мирно настроенный человек, старается соблюдать свое достоинство, но доктор он еще тот! Как-то вечером Гризела ушибла ногу, так он наложил пластырь туда, где и раны нет. Вы же видите - толку от него мало.
-Послушайте, Эбигейл, может все же вам поехать вместо меня?
-Простите, сэр, что мне приходится это сказать, тем более в связи с этим обстоятельством, но вы как муж несете на себе особую обязанность.
-Вы необыкновенный тиран, Эбигейл. Конечно, вы действуете в интересах моей семьи, но даже когда вы заняты только собою, я не могу оставаться в стороне от вас. Вы служите под моим началом, но я, который сам привык распоряжаться другими, чувствую себя орудием в ваших руках. Жизнь я веду совершенно непонятную: приходится либо соглашаться, либо подчиняться.
Эбтгейл, вздохнула и сказала, как ни в чем не бывало с видом святой на горе возвещающей необычайную милость:
- Вам не надо подчиняться тому, кто готов признать себя ниже вас, но следует соглашаться с тем, кто стоит по вашу левую руку.
-Эбигейл, вы вокруг меня, имеете способность разрастаться, разветвляться, расширяться. Мне кажется, что ни имя мое, ни родство не могут защитить меня от вас. Я не хочу ехать в Норберт, у меня есть дело.
-И даже не выходя за пределы собственных дел, вы можете навестить леди Маргрэт. И прибывая в отсутствии, вы не заставите своего гостя скучать. Я позову Амброза, полагаю, его общество придется ему по душе, - не без насмешки сказала Эби, поднимая глаза на меня, потом отвела взгляд в сторону и прибавила. - Кажется, он уже поладили с ним?
Как бы ни старалась она задеть меня этой фразой, мне стало смешно, Чарльзу тоже. Он толкнул меня локтем и сказал:
-Прошу вас Эбигейл, обращайтесь с Обри, как с самым важным гостем и не вынуждайте его вам подчиняться. Все, что делается для него, должно делаться с его согласия. Ваша жажда повелевать не должна на него распространяться.
-Поверьте, это побуждение для меня лишь средство, а не цель. Пойду, скажу Оливеру, чтобы приготовил машину. Хотя вы не дали прямого согласия, как-никак, самая неопределенность заставляет думать, что ехать все равно придется.
-Найти какой-нибудь предлог, чтобы не ехать, не трудно, но ты слышал Эби?- с досадой сказал герцог. – В ее взгляде было: «Делайте, как вам говорят».
-Ты женат? – спросил я, когда она убралась.
-На свое несчастье женился, - ответил Чарльз и, взяв меня под руку, повел за собой. На второй ступени лестницы он приостановился, опустил руку на мое плечо и пояснил. - Давая понять тебе, что бремя брака, невыносимо, я должен пояснить, что женился на богатой женщине. Не будем больше говорить об этом. – После этих слов он стал подниматься, но уже через три ступени остановился опять и к тому, что сказал, добавил. - Легко можешь себе представить, как мы живем, - и, обращаясь ко мне с видом человека, пустившегося в свои обычные рассуждения, он продолжил: - Мы часто ругаемся, не видя другого выхода, решили жить раздельно: она там, я здесь.- С этими словами он стал шагать по лестнице, я тронулся за ним. Поднялись наверх. Тут я взглянул в лицо герцога, и увидел на нем столько веселого нетерпения, что сразу решил, что мы пришли сюда, чтобы остаться с глазу на глаз. - У нее с Эби один и тот же размер и вкус одинаковый, они сошлись даже во взглядах, на обеих, а они нудные, ворчливые, холодные куклы, лежит какое-то добровольное отлучение. Эби льстит, что моя жена допускает ее в свое общество, поэтому расхваливает ее как может. Между этими двумя фуриями возникла духовная близость особого рода, вдвоем, они составили хунту и теперь Эби в обращении и в разговорах следует манере своей наперсницы – она обвиняет меня решительно во всем. Меня, как ты видишь, притесняют с двух сторон. До чего дошел! Спасения нет, придется все же навестить Маргрэт – это способ угодить и той и другой стороне.
-Я не мог не заметить, что Эби не выносит Амброза?
-Он всеми силами старается подорвать к ней доверие, чтобы распоряжаться самому.
-Она покровительствует кухарке.
-Ты наблюдательный и, как видно, уже успел заметить, кто да что. Отношения в замке напоминают два встречных течения: одних Эбигейл сделала своими врагами, а других заставила искать с ней дружбы. Я ей зла не хочу, но иногда она меня бесит, как например, сейчас. Было у меня в мыслях бросить ее в колодец.
На этом мы расстались. Оставшись один, я пошел к себе и, не зная, чем себя занять, бродил по комнате то и дело задерживаясь у окна. Не имея никаких видов относительно того, что делать, вышел из спальни, так как ничто вроде бы не удерживало меня здесь. Спустился вниз. Прислуга в это время выполняла свою повседневную работу: в гостиной Огастин, тот самый рыжий парень, что сидел за столом рядом, полировал шерстяной тряпкой паркет и между делом флиртовал с Джейн – она сметала пыль со старинных картин, фыркала, посмеивалась и не раз устремляла тоскливый взгляд в окно. Была хорошая погода, светило солнце, и прохладные тени манили в парк. Тут из соседней комнаты выходившей дверями в гостиную послышался голос Эбигейл. Забавно, что Огастин и Джейн работали вполсилы, мало заботясь о том, чтобы выполнить свою работу наилучшим образом, но стоило им услышать возглас ненавистной экономки, как они сразу же утроили силы и теперь каждый погрузился в исполнение с таким волнующим педантизмом и с таким показным рвением, что я, при этом присутствуя, не мог не улыбнуться. Полагаю, что мне следует снабдить эту сцену пояснением, которое облегчило бы читателю понимание происходящего. Дело в том, что Эбигейл воспринимала свободу не иначе как беспорядок, отчего она неустанно следила за тем, чтобы никто из прислуги не чувствовал себя достаточно свободным и даже думать не думал, что можно держаться независимым от нее, а поскольку все они либо смерились с ее деспотичным режимом, либо только делали вид создавалось впечатление, что настоящего возмущения необходимого для мятежа ждать просто не от кого. Стоит однако сказать, что эти подневольные люди и впрямь вынуждены терпеть тиранию Эбигейл, им приходилось подчиняться, чтобы не лишиться места. Следовательно, было бы несправедливо ставить им покорность в упрек. Было сомнительным удовольствием встретить Эбигейл, невзирая даже на то, что с самого начала мое положение обеспечивало мне неприкосновенность. Тем не менее, простое нежелание лицезреть ее заставило меня покинуть гостиную. Я уходил с почти сложившимся мнением о том, что Эбигейл злобная, своенравная старая дева. К тому же я воспользовался подходящим моментом, чтобы уйти незаметно. С первого этажа на второй вела широкая, отделанная дубом лестница, ступени устилала пурпурная ковровая дорожка. В замке имелись еще две лестницы, но они не шли с этой ни в какое сравнение: были узкими, донельзя простыми и нуждались в ремонте. Замечу, что и потолки в нижних помещениях были гораздо выше, чем на других этажах. По пути я подумал о фрустрации инфантильного Амброза, старающегося всем угодить: он любил разглагольствовать, но обычно его рассуждения никуда не вели. Затем, подумал, что из-за своей строптивости он не раз попадал в неловкие и затруднительные положения, отдельно промелькнула мысль о несостоятельности его претензий. Дело в том, что я принял его дружелюбность, не учитывая враждебности к нему Эбигейл, и у меня вдруг появилось крайне неприятное ощущение. Быть может, я боялся скомпрометировать себя общением с ним. Итак, спасаясь бегством от Эбигейл, я переместился на второй этаж, прошел коридор и по лестнице, которую никак нельзя было назвать красивой, поднялся на третий. Здесь, вдали от домашней суеты было спокойно и тихо. Собираясь, было водвориться в свою спальню я на полпути вспомнил про Дина и двинулся в направлении его комнаты. Он ютился в самом конце коридора в крошечной комнате со скошенным к окну потолком. Я застал его за столом, он рисовал цветными карандашами. На столе ворох бумаг, карандаши, тарелка с имбирным печеньем и перевернутый стакан. Дин рисовал лошадь.
-Тебе нравятся лошади? – спросил я, разглядывая рисунок.
-Да. Раньше я работал на конюшне.
-Вот как. Тебе платили?
-Денег не давали. Расплачивались тем, что кормили.
-Ну, а книги читаешь? - Дин кивнул, я продолжил расспросы: - Какую читаешь сейчас?
-Там про одного жадного старика, к нему племянник приехал, а он не хотел впускать его в дом…
-Название помнишь? Или кто автор?
Дин поджал губы, задумался, вздохнул и покачал головой в знак отрицания.
-Дам десять долларов, если вспомнишь.
-Правда, дашь?
-С легким сердцем.
Воодушевленный моим предложением Дин на полминуты погрузился в воспоминания, затем его лицо просветлело, и он воскликнул:
-Стиветсон! Хочешь я дам тебе почитать эту книгу?
-Я бы хотел услышать его историю от тебя самого.
- Теперь у меня шестнадцать фунтов и десять долларов. Мне нужны деньги. Скоро у меня их будет больше – я пустил в оборот те шестнадцать фунтов. Чарльз собирается уехать в Америку вместе со мной. Я уже начал приготовления к путешествию. А где он?
- Поехал к своей жене, бывшей. Ты ее видел?
-Конечно, я даже подглядывал за ней, - ответил этот незрелый плод интроекции.
Представляя его не иначе, я подумал, что в жизни этого мальчика нет событий, которые связывали бы его с внешним миром, но есть собственный код поведения и половые чувства. Ведь нельзя, с уверенностью утверждать, что у мальчика его возраста они отсутствуют. Еще я подумал, что он… да мало ли что еще можно подумать!
-И что увидел? – спросил я, не без мысли о том, как замечательно находится на какой-то начальной стадии исследования, когда даже неприятная женщина становится объектом восприятия. Конечно, его любопытство есть производное от телесных ощущений, оно не обязательно должно быть произвольным, он просто наблюдает окружающий мир, не заботясь о том, какие вещи обогащают его сознание, а какие – нет.
-Ну, видел, как она чулки одевала. Мне она тоже не нравится. Вот кого я ненавижу, так это Эбигейл. Я всегда с ней ссорюсь. Она платит за это грубостями и оскорблениями. Иногда, таскает меня за уши, но чаще, не сумев ухватиться за ухо, дает подзатыльники. Огастин говорит, что он стал недоразвитым из-за того, что его отец в детстве все время бил по голове. Так и я, чувствуя затылком ее удары, стану дураком на всю жизнь. Я боюсь, что выйдет так, как бывает, когда бьют по голове….
Я хотел было продолжить расспросы про Эбигейл, как вдруг мой взгляд упал на опрокинутый стакан. Внутри него была заключена муха. Насекомое в этот момент взобралось на внутреннюю стенку, пошевелило крыльями и стало спускаться.
-Зачем ты держишь там муху?
-Хочу узнать, сколько времени она протянет без воды и пищи.
-Давно она под стаканом?
-Уже два дня, - был ответ.
-Тебя это развлекает?
-А что?
-А то, что ты показываешь свою бессмысленную жестокость, мучая насекомое. Ты ведь не такой. Ты хороший, добрый мальчик. Неужели ты не хочешь вернуть ей свободу?
-Зачем?
-А зачем мучить ее?
Дин пожал плечами и простодушно возразил:
-Но это всего лишь муха.
-По-твоему, если ты не слышишь ее умоляющие крики, не видишь, что она дрожит, это значит, что она не страдает вовсе? Подумай еще вот о чем: может быть, эта несчастная муха тоскует по дому, по своему семейству, может у нее семь детей. Или десять. Хотя, какая разница сколько их. Много или всего один. Если ты допустишь, чтобы она умерла, все равно от чего, ты станешь убийцей мухи. Неужели ты не чувствуешь ответственность за ее судьбу и откажешься выполнить свой долг по отношению к ней?
С последними словами я увидел, что выражение лица изменилось у Дина, он все же признал не только свою жестокость, но и справедливость моих замечаний. Мои слова вызвали у него самые положительные чувства, среди которых была и жалость к пленнице, и он, ободренный пониманием проблемы, которую предстояло разрешить, не раздумывая, поднял стакан. После двух дней внутренней изолированности, следствием, которой было отсутствие контакта с жизнью, муха была в состоянии шока, она даже не заметила этого и несмотря ни на что, оставалась на месте. Видимо она не сразу почувствовала себя свободной или растерялась, если это можно сказать в отношении бесчувственного существа. Неважно, что было тому причиной – замешательство или отупение, - но муха была скована неподвижностью. Тогда вооружившись карандашом, я слегка подтолкнул ее, она зашевелилась и поползла по столу. Мы обменялись с Дином взглядом, он улыбался. Между тем муха добралась до края, замерла, затем повернула назад и словно была слепа, натолкнулась на желтый карандаш. Вползла на него, спустилась на край бумажного листа и стала ползти по его измятой поверхности, словно карабкалась в гору, но сил не хватило и насекомое упало на спину. Когда Дин, а ему доставляло удовольствие наблюдать за ней, помог ей, используя заостренный конец карандаша, принять естественное положение, она ничего не предприняла, осталась на месте. Должно быть от волнения, пережитого в первую минуту своего неожиданного спасения, она совсем обессилила. Почти в полуобморочном состоянии я отнес муху на ладони к приоткрытому окну. Колебания воздуха возымели свое действие - они сообщали мухе жизненность и силу - у нее стали прорываться первые самопроизвольные движения – она подняла и опустила крылья. То была первая попытка привести в движение все части тела. Я перенес ее в горшок с цветущей геранью, с листа она вяло переползла на занавеску. Пришел конец ее мучениям, и свободу свою, которую она ощущала сполна лишь на потолке, муха воспринимала не иначе, как наваждение и сон, от которого она, следует думать, не могла отделить последние два дня, ставшие для нее вынужденной пыткой. Дин был доволен исходом дела, но его больше волновал выигрыш.
-Когда я получу десять долларов?- спросил он.
-Прямо сейчас. Следуй за мной, - сказал я, направляясь к выходу.
По пути в спальню, я спросил у него:
-Те шестнадцать фунтов, ты сказал, что пустил их в оборот. Что это значит?
-Дал деньги Огастину под пять процентов.
В спальне, куда мы пришли, я достал бумажник из верхнего ящика комода и вручил десять полновесных долларов Дину. Счастливый, он поцеловал банкноту и воскликнул:
-Мои первые доллары! У меня их будет много в Америке. Я хочу быть богатым. Ой, смотри, апельсины!
Я обернулся и увидел на столе тарелку с апельсинами. Пока я собирался с мыслями, Дин взял два апельсина и, не сходя с места, один бросил мне. Стараясь поймать фрукт, я отвел правую руку в сторону и локтем толкнул стоявшую на краю комода фарфоровую вазу расписанную кобальтом. Поскольку я не мог одновременно ловить апельсин и вазу, она упала и разбилась на небольшое количество осколков. Придя в себя от испуга, я переглянулся с Дином.
-Что будем делать? – не своим голосом спросил он.
-Давай соберем осколки и избавимся от них, то есть выбросим, - предложил я.
-И никому не скажем, - согласился Дин, он опустился на колени и принялся собирать в руку осколки. Я присоединился к нему и, поднимая с пола осколок, сказал:
- Кому есть дело до этой вазы?
Собрав в салфетку то, что было вазой, я из спальни пошел в сторону башни, в конце коридора имелся боковой проход, который вел на заброшенную террасу, примыкавшую с западной стороны к башне. Было неожиданностью увидеть там Амброза. Он стоял спиной ко мне в углу и пил виски. Смущенный моим появлением, он поспешил спрятать бутылку в карман.
-Вышли на прогулку, что ли? – спросил он с видом блаженным.
Не видя, что он пьет виски, я бы подумал, что он курит опиум. Добродушное лицо этого пожилого человека было красным. Будучи образцом бодрой, строптивой натуры, склонной к обжорству, он обожал женское общество и виски.
-Что-то вроде этого, - протянул я, пряча в свою очередь за спину завернутые в тряпку фрагменты вазы.- Я заблудился. Шел с мыслью погулять в саду и оказался здесь.
-Ну, эта часть замка полуразрушена, гулять опасно, особенно внизу – как бы кирпич или черепица не обрушилась на голову. Отсюда в сад не попасть, да и поздно уже для прогулки, но если вы держитесь правила гулять перед сном, если именно этого и желаете, то с чувством долга перед самим собой идите в тот конец коридора, - настойчиво и убедительно говорил дворецкий – поверните направо и таким манером окажетесь на южной галерее. Но и там будьте осторожны. Этим летом с потолка упал кусок штукатурки прямо перед моим носом.
-Твой совет наводит на мысль, что ты принял мое желание погулять за твердое решение, - ответил я, озабоченный тем, что мне делать с осколками вазы. – Но мне достаточно будет подышать свежим воздухом.
Амброз с самого начала заметил, что я держу руку за спиной. Ему не терпелось допить виски, но я мешал ему. Впрочем, как и он мне. Я рассчитывал, что он оставит меня, но Амброз не торопился с этим, простодушно полагая, что я уйду первым. В то время как я раздумывал, нельзя ли воспользоваться моментом, когда дворецкий не будет на меня смотреть, чтобы незаметно выбросить осколки вазы, меня вывели из задумчивости его слова:
- А вот я ленюсь гулять перед сном, пожалуй, и права Эби, лентяй, раз я для себя не стараюсь. Впрочем, суета и заботы для молодых, старым людям, уж это я могу вам сказать, нужно блаженство сытой и спокойной жизни. Но без излишеств, сами понимаете, каких. Знаете, м-р Маршал, своим появлением вы произвели самое приятное впечатление в замке: вы красивый, обходительный юноша и среди всех гостей, за исключением моего племянника, не было никого равного вам – дай-то бог, чтобы вы хорошо провели время. Приехали из самой лучшей страны в мире. Ах, Америка! Глядя на вас, такого милого и умного, я вижу ее славу.
- Спасибо, здесь мне оказывают столько внимания, все, кто как. Даже Эбигейл старается мне угодить!
-Это формальность, - заверил дворецкий. – Все ей безразличны, кроме разве самой леди Гулд.
-Кстати, ты не знаешь ли старика, что живет возле пруда? – спросил я под любопытным взглядом дворецкого, который, видимо, досадовал на то, что я не спешу уйти.
-Хэзлита что ли? Кто его не знает. Старый, верный слуга семейства Гулдов. Тихий человек. Живет вместе с сыном в доме привратника. Сын его на редкость скверный человек. Просто ничтожество. Сообщаю вам это без всяких подробностей. Вы спросили, я, как полагается, ответил. Только и всего то.
Говоря это, Амброз переступил с ноги на ногу и выпрямился. Его начало беспокоить не только мое присутствие, но и его собственное положение. Изнемогая от желания сделать глоток другой виски и в то же время тяготясь мною, он почесал нос и вперил в меня пронизывающий взор, который один побуждал меня убраться. Внутренний позыв к действию был сильным. Со своей стороны я старался быть непринужденным, чтобы нельзя было подумать, что я сердит и в то же время немного раздражен выпавшим мне на долю делом – как мало в нем радости.
Вдруг я повернулся к дворецкому и спросил:
-Что ты здесь делаешь, Амброз?
- Я часто прихожу сюда в сумерках, - упавшим голосом сказал он, - так сказать, отдохнуть душой от дневных трудов. Внизу это оказывается невозможным, ибо постоянно слышу голос, мне неприятный. Здесь я имею утешение не видеть и не слышать ее. Угодно ли вам знать, кто она?
-Эта женщина весь день не имеет ни минуты покоя.
-Ведьма она этакая! – вырвалось у дворецкого. – Никто не знает, что я претерпел от нее.
-Мне нужен твой совет, Амброз.
-Почту за честь дать его вам, - повысив голос, возвестил дворецкий. При этом он ругал меня последними словами за то, что я не тороплюсь оставить его. Негодование до некоторой степени включало в себя неуемность, которую можно устранить путем употребления виски. Тут Амброз посмотрел в темноту и шумно вздохнул, мечтательно опустил глаза и сказал как бы в сторону: « Как хорошо сейчас лежать в теплой постели». Это он сказал, дабы склонить меня все же признать справедливость его замечания и принять необходимость лечь в постель как части отдыха, как он выразился « от дневных трудов».
-Давай сговоримся на том, что разговор останется между нами.
Услышав это, Амброз поднял брови.
- Господь знает, что я претерпел от нее, - проворчал он, обманутый в своем ожидании. - Лично я ее ни во что не ставлю. Примите это к сведению. Между прочим, вы не находите, что она ведет себя с вами недружелюбно?
-Это- то меня и беспокоит. Вот только почему, не понятно.
-Да будет вам известно, у нее вздорный нрав.
-Что мешает ей быть чуть добрее ко мне?
-Вряд ли этот кусок льда оттает от одних ваших красивых глаз. Надежды мало, но попытаться можно.
-Вот и дай мне подходящий совет.
Амброз бросил на меня опять недобрый взгляд и призадумался. Перебирая в уме всякие соображения, он сделал глупое лицо: сжав губы он выпятил нижнюю и собрал на лбу морщины.
-Совет, стало быть, такой: не пытайтесь умаслить Эбигейл, когда ее мучают приступы ревматизма.
Возможно, он был прав, хотя я сам не знал, насколько. Но в словах не было полной ясности, и я спросил снова:
-Как ты считаешь, подарок уместен? У меня есть американский шоколад.
-Ну, это что-нибудь да значит. Шоколад, говорите. Я тоже его люблю, а американский особенно.
-Что ты сам о ней думаешь?
- Я не переношу Эбигейл даже в мыслях. Она довольно-таки злобная женщина. Все тут вынуждены считаться с ней. Все, кроме меня. Что мне до нее! Конечно, она занимает высокое положение как-никак домоправительница. Важная персона, после меня, разумеется. Значит, вознамерились обольстить ее холодное сердце? Вот только сердца у нее нет. Уверяю вас. А посему, на ее приязнь вам не следует рассчитывать. Ну, да черт с нею!
Говоря это, Амброз попятился к выходу, я кивнул и отвел глаза в сторону, чтобы он мог пройти мимо меня с бутылкой. Едва он исчез, я посмотрел вниз и, увидев кучу мусора в траве, избавился от осколков вазы. При этом я успел заметить, что на той куче и вокруг нее, поблескивая поверхностями, лежали пустые бутылки. Возвращаясь назад я увидел идущего мне навстречу Дина. Он был явно чем-то встревожен. И вот почему. Войдя в спальню, я обнаружил возле камина, где тлели угли, Эбигейл. Она сопровождала Огастина, который принес дрова. Неожиданно я осознал, насколько опрометчив был мой поступок. Эбигейл стояла согнувшись и, упираясь левой рукой в колено, правой держала полено, собираясь положить его в огонь. Она смерила меня через плечо равнодушным взглядом, добавила в камин еще два полена, после чего выпрямилась, отряхнула передник, обвела взглядом комнату и, увидев на комоде смятую салфетку, на которой стояла ваза, поправила ее края. Я испугался, что она заметила исчезновение вазы. Так оно и вышло.
-Скажите, а где ваза-тюльпан, что стояла здесь?
Я медлил с ответом, Дин стоял на пороге и знаками умолял меня молчать.
Я пожал плечами и с видом, что мне нет ни какого дела до вазы, бросил:
-Наверное, Гризелла переставила ее в другое место. Она приходила утром поменять полотенца.
-Вот как, - проговорила Эбигейл, глядя на меня в упор. – Спрошу у нее. Не понятно, зачем.
-Я разбил ту вазу, - чуть слышно прошептал я, понимая, что схитрить или уклониться от признания уже невозможно.
-Что! – изумилась она. – Как, когда? Вот беда-то какая! Ей богу, вы сущее наказание. Можно ее склеить? Дайте мне осколки. Я попрошу Амброза за это взяться.
-Видите ли, я выбросил их, - еще тише сказал я, мягким извиняющимся тоном.
-Что сделали?- ахнула Эбигейл.
-Выбросил осколки, - громче сказал я, избегая на нее смотреть.
- Не может быть! Боже правый! – простонала Эбигейл. – Скажите на милость, зачем?
Оставив без ответа ее вопрос, я беспомощно развел руки и шумно вздохнул.
-Какое безобразие! Разбили прелестную голландскую фарфоровую вазу. Да вы знаете, что она досталась в наследство леди Мортимер от лорда Гиббсона! И та перед смертью завещала вазу и льняные скатерти леди Гулд. Скажу больше, что ее светлость пообещала подарить ее мне на….
Закончит фразу Эбигейл не смогла. Открыв рот, чтобы глотнуть воздуха, она обернулась и увидела позади себя Дина.
-Что ты развесил свои ослиные уши! Ступай к Огастину. Лентяй и бездельник! Только спать да есть можешь! - гневно восклицала она. Перевела взгляд на меня и, продолжая метать гром и молнии, сказала. – Пусть Огастин хоть раз отколотит его палкой, а что касается вас, мистер как вас там, то ваша выходка просто возмутительна – равносильна обману!
-Что вы беснуетесь, - выпалил я. – Из-за какой то вазы столько шума!
-Это была старинная ваза большой ценности.
-Мне не с чем сравнить,- немного осмелев, бросил я в насмешку. Просто мне стало противно оправдываться перед ней.
-Это уже вовсе невыносимо! Ни слова больше.
Но я и так молчал, и уныние, меня охватившее, было в напряженном противоречии с ее гневом.
- Я шла сюда с почти сложившимся мнением о том, что вы честный, достойный уважения молодой человек. Выходит, ошиблась. Разбили вазу и пытались это скрыть. Столь бесчестный поступок может исходить лишь от безрассудного, опутанного сетями греха, никчемного человека и как таковой, вы внушаете скорее презрение, чем сочувствие.
Гнев ее по поводу злополучной вазы я находил не оправданным, а ее злые слова укрепили мою зарождавшуюся неприязнь к этой бездушной женщине. Мне хотелось схватить ее за горло и….
-Не сочтите за дерзость, - воодушевленно сказал я в последнем приступе раздражения, - но я принимаю ваше оскорбление за комплемент и постараюсь его заслужить.
-Вот как, - сквозь зубы произнесла Эбигейл, - Тогда низко кланяюсь. И с этим вышла.
Глава 3
Надо ли говорить, что случившееся оставило горький след в моей душе. Еще свежие впечатления последних двух дней не только потеряли прелесть новизны, но власть надо мной. Атмосфера в замке больше не казалась мне какой-то волшебной, я вспоминал некоторые подробности своей беспокойной жизни в Америке с ее высоким уровнем организации Эго и тенденцией к улучшению с чувством, что их развитие имеет здесь свое естественное продолжение, но с одной заметной особенностью – мне приходилось преодолевать отрицательную реакцию в случае с Эбигейл. Разумеется, с Чарльзом все было не так. Пока ничто не указывало путь к пониманию сути этой реакции. Все в замке было проникнуто духом этой маленькой женщины. Чарльз, как то сказал, что злобный характер старых дев, прежде всего, объясняется тем, что они не имеют половое удовлетворение. Стало быть, отсутствие в интимной жизни такого важного детерминанта изменяет их вид на унылый, а властность и нетерпимость, вообще как вызов являются проявлением мазохистского характера, что следует рассматривать просто как сексуальное отклонение. Но это уже мое заключение. Словом, в таком расположении духа я бесцельно провел вечер и лег спать. Долго мое воображение было занято измышлением какого-нибудь способа досадить Эбигейл, меня сжигало мучительное желание сделать что-то, на зло этой ведьме, но ничего определенного не пришло в голову. Обуреваемый такими мыслями я уснул. Утром, мне было стыдно настолько, что я не осмелился пойти к завтраку, мне не хотелось видеть Эбигейл, которой я бросил вызов, не имея поддержки Чарльза хотя бы только в виде физического присутствия. Таким образом, я остался голодным. Что может быть хуже голода? Оказывается – стыд. Если бы я не разбил вазу, со мной не случилось бы того, что случилось. Я просидел в своей комнате до девяти часов, после этого времени на протяжении последовавших двух часов я не переставал удивляться тому, почему никто не ищет меня. « Ничего не хочу знать о нем» - скажет Эбигейл, оставляя меня даже без самого необходимого. Но где Амброз, Дин, Чарльз, которого я считал за своего друга? Неужели не видя меня, они перестали обо мне думать? О каждом я подумал в отдельности и даже вообразил, что вот-вот один из них, а то и все вместе покажутся в дверях моей спальни. Никто не пришел. Уже я не знал, что думать. Почему исчезновение мое не вызвало беспокойство и любопытство у домашних? Я не мог спокойно с этим примириться. Странно, что никто не задал себе вопрос хотя бы из одной только вежливости: « почему не видно больше молодого гостя и куда он вообще девался»? Дело дошло до того, что ближе к полудню чувство голода было таким сильным, что я стал жевать лист какого-то растения, росшего в горшке на окне. Вкус был горький и на беду мою лишь разжег аппетит. Небо было наполовину затянуто тучами. С такой картиной перед глазами я томился своим одиночеством и, испытывая голод, думал об этом, как о не проходящем несчастье. Да еще в чужом доме! Подумал о Боге. Неужели Он в милосердии своем откажет мне в такой милости, а какой – вы сами знаете. Я еще не решил, что мне делать, но оставаться в спальне больше не мог. Но вдруг скрип дверных петель оторвал меня от размышлений, я обернулся и увидел….. Господь не оставил меня и послал Дина. В беде и в радости он был душою со мной, быть может даже больше, чем он сам понимал. Раздобыв каким-то образом, кусок сыра и ломоть пирога с рыбой он принес еду мне. Вопли порывистой радости заглушили его слова. Пока я ел, Дин сообщил мне, что на завтрак была яичница с ветчиной, и что ему доставило удовольствие съесть мою порцию. « Как Эбигейл отнеслась к тому, что я не пришел завтракать»? – спросил я.
- Она сказала, подождем три минуты, а когда время прошло, Амброз сказал всем, что надо разузнать про тебя и посмотрел на меня. « А без него что же мы, несчастные, есть не будем»? – возмутилась Эби. Все сразу набросились на еду, одна только Гризелла не очень-то торопилась есть. Она сказала: « Только вот боюсь, не случилось ли какой беды с ним?»
-Кто тебе дал пирог?- спросил я, выбирая из тарелки крошки. При этом думая о Гризелле – мне захотелось как-то порадовать добрую женщину.
-Я его взял для тебя, - ответил Дин, не сводя с меня довольных глаз.
-Где взял? – с легким недоумением спросил я, взявшись за сыр.
-В кладовке, - был ответ.- Ну, стащил еду, что тут такого?
-Вот как, - вздохнул я, полагая, что мне следует отказаться от сыра. Я чувствовал некоторое смущение, мешающее мне продолжать есть. - Ты должен был сказать мне это раньше.
Дин фыркнул и сел на мою кровать.
-Я давно таскаю оттуда всякую еду, - сообщил он. – Раньше мне приходилось залезать через окно, оно было такое узкое, что мои плечи были шире, чем окно. Поэтому я ложился на землю и пролезал ногами вперед. Но Эбигейл заметила пропажи и за окном установили наблюдение. Сначала следила старуха Питуокер. Эта старуха, как курица, где сядет там и спит. Я мог бы провести мимо слона, так она крепко спала. После нее за окном наблюдал Твемлоу. Ничем он ее лучше не был. Он совсем или почти тупой, недоразвитый какой-то, не умеет писать свое имя и сосчитать монеты. Так что он не мог мне помешать таскать колбасу, консервы, джем и все остальное. Я всегда находил способ обмануть его. Ему очень нравилась Джейн. Весь день он только и делал, что мечтал и вздыхал. Я прихожу и говорю, что Джейн сейчас гуляет в яблоневом саду. «Иди и скажи все сразу Джейн» – говорю. А он – «не могу уйти, я должен охранять добро. Эбигейл может не понравится то, что я уйду». А я ему – «я постою на твоем посту». «Знаешь,- продолжаю врать с честными глазами,- вчера на кухне Марта всячески расхваливала ей тебя». Он на это – «Она не любит меня». «О, если бы ты слышал, что ответила Джейн». – «Что? Что ответила» – встрепенулся Твемлоу. «И ты еще спрашиваешь? Она сказала: «Я люблю его за то, что он страдает». Сам слышал ее слова. Это я сказал с улыбкой, успел подумать, что он осел, но виду не подал, что мне хочется смеяться. « Я боюсь того, что собираюсь сделать» - сокрушается Твемлоу. – « Но раз дело мое такое запутанное, все-таки мне нужно пойти и сказать Джейн, что у меня есть для нее важная новость. Конечно, пойду и скажу: я теперь могу стать мужем твоим». Ты можешь себе представить с каким нетерпением он бежал в сад. Два раза я даже угощал кое-чем Твемлоу. Так вот, этот дурень ел цыпленка и не подозревал, что я спер его за тем окном, которое он охраняет. После него назначили надежного человека - Огастина. Но мне было уже все равно. К тому времени я раздобыл запасной ключ от кладовой и входил туда через дверь. Почему ты больше не ешь? Что с тобой? Ты обиделся на меня?
-Ну что ты! – возразил я. Секунду-другую, я сидел словно зачарованный, а затем сказал - Можно ли осудить тебя, виновного в кражах продуктов и вранье, но чистого душой!
В это время снаружи донесся знакомый нарастающий шум, заметно потемнело, и вдруг с карниза крыши над моим окном сплошным потоком полилась вода. Дождь был неожиданным и стремительным. Под напором ветра, который яростно обрушивался на деревья и сотрясал их, отяжелевшие от влаги ветви гнулись, а тускло поблескивающие листья то замирали, то начинали судорожно шелестеть на ветру. Я подошел к окну и вперил неподвижный взгляд в пустоту, Дин с постели тоже смотрел в окно. Что может быть хуже, чем дождь в воскресенье? Кто-то кашлянул, давая знать о себе: на пороге, привалившись плечом к дверному косяку и устремив тоскливый взор через всю комнату во двор, стоял дворецкий. Обычно он держался с большим достоинством, как и полагается, от дворецкого знатного герцога. Но сейчас, он застыл в задумчивой позе, и в нем не было ничего величественного. На лице, утратившем выражение показной важности, отражалась некая озабоченность, руки были согнуты в локтях и одна сверху другой лежали на животе.
-Доброе утро, м-р Маршалл! – провозгласил он, когда я обернулся и увидел его в дверях.
-Скорее уж мокрое, - возразил я и подошел к нему ближе.
-Так и есть, и вы, как будто не рады тому? Вот тебе на! А мне пришелся по душе дождь утром.
-Я собирался на прогулку. Не могу поверить, что тебе на самом деле нравится дождь.
-Не больше, чем виселица, - ответил Амброз, - но в детстве впечатление было самое благоприятное и я – хотите, верьте, хотите нет – молился о дожде, чтобы он избавил меня от работы в поле. Так что дождь в Англии для изнывающего от подневольного труда мальчика всегда был спасением, особенно если приходился в удобное время. Однако в остальное время дождь сам по себе мешал, когда, например, предполагалась поездка в город на ярмарку или прогулка в лесу. Я был в свои лучшие годы озорным и непоседливым мальчиком, но по соображениям, вам понятным, об этом не буду распространяться, хотя до сих пор помню один злосчастный случай, несмотря на то, что понесенный ущерб был невелик.
-Ты прирожденный рассказчик, Амброз! Пожалуйста, заходи. Если ты никуда не торопишься, то может быть, расскажешь мне о том случае. В такую погоду особенно приятно вести задушевный разговор, не так ли?
-О, так, стало быть, и вы понимаете это? – подхватил дворецкий, он неуверенно вошел в спальню, кивнул Дину, затем обращаясь ко мне, но взглядом указывая на него, сказал – Вот заблудшая овца! – и охваченный каким-то приливом благоговейного томления, продолжил. – Я был в его нежном возрасте, когда на долю мою достался стыд и там бог весть какой страх, да мало ли еще что. Может раскаяние в своей вине. В этом дожде есть что-то напоминающее мне один вечер, когда я мальчишкой бежал по открытому полю.
-Вижу это долгий разговор, садись, пожалуйста – сказал я.
Но поймал в ответ взгляд задумчивый и серьезный.
- Как приятно сидеть у камина в кресле в жарко натопленной комнате и в неторопливой беседе с умным человеком, вроде вас, найти приятнейшее для себя отвлечение. Но, сдается мне, вы не в должном настроении?
-Что ты! Я рад тебе. Расскажи что-нибудь интересное и для моего отвлечения.
- Обойду, пожалуй, молчанием то, что было началом, - вполголоса произнес Амброз, поднимая на меня глаза уже после того, как принял удобную позу в кресле. После короткой паузы, он перевел взгляд на Дина, а от него - на меня. – Редко и только в определенное время отпускали меня на улицу.… Этот дождь весьма кстати. Ведь если бы не это, Эбигейл заставила бы меня с Огастином трясти ковры.
-Она что, может тебе приказывать?
-Кто сказал вам?- воскликнул дворецкий. – Ничего подобного!
-Никто, просто к слову пришлось.
- Помилуй, боже! Как так приказывать? И это вы говорите мне? Смею вас заверить, что я единственный, кто с ней не считается. Причем вам дается понять, что я ей не подчиняюсь.
- Да что ты! Однако я не мог не заметить, что с тобой она высокомерна.
-Вы же отлично знаете, у нее вообще такая малоприятная манера. Признаюсь, что мне не удается полностью исключить ее из участия в управлении замком, из-за того, что она пользуется покровительством леди Гулд. Прежний дворецкий пытался дискредитировать Эбигейл в глазах ее светлости и сразу же оконфузился. Помимо того, вам скажу, что сэр Чарльз счел себя вынужденным терпеть Эбигейл в своем доме.
Я кивнул, подумав про себя, что власть экономки в большей степени затрагивает его собственные интересы, нежели интересы герцога.
- Эх, да провались она совсем, эта ведьма, - махнул рукой возмущенный дворецкий.
-Мне не надо говорить кто она, а кто ты – сам вижу.
-Так-то! Друзья герцога вам скажут, что я самый влиятельный из его окружения, стало быть, через мое посредство, можете просить у него, что угодно, – с напускной важностью бросил дворецкий, приставил руку к боку и через плечо стал пристально смотреть на огонь в камине. Затем последовал тяжелый переходящий в стон вздох.
-Что с тобой, Амброз?- полюбопытствовал я.
-Слишком много съел, - ответил толстый, расплывшийся дворецкий и расстегнул пуговицу на брюках.- Вот была камбала жирная! Отбивные из телятины оказались лишними, но Марта, радея о моем довольстве, уговорила попробовать хотя бы одну, я, на беду свою, не удержался и сподобился съесть еще три. Одним словом, переел. Вообще то я не собирался есть до обеда, но какое-то время назад, преспокойно шел мимо кухни и в нос ударил соблазнительный запах, усиленный розмарином.
Не прошла и минута, изменив тон, он промолвил удивленным голосом – Так вы, значит, решили, что я у нее под каблуком. Вот это действительно новость! Ах, она пиявка болотная! - С этими словами он поднял сжатый кулак. – Я ее…, да я из нее всю дурь вышибу из головы. Ну, там посмотрите!
-Какую историю, ты хотел рассказать, - напомнил я.
-Да, я забыл, - спохватился Амброз. – Сразу скажу, что случай тот заурядный, вы и сами найдете его таковым, однако раз уж вы соблаговолили услышать историю, которую, собственно, и историей не назовешь, то извольте. Вот она. Я купался в пруду. Не с того начал. Мне было двенадцать лет. Ах, детство, полное неиссякаемой радости! Был летний день, как я уже сказал, перед тем, как не с того места начал, что купался в пруду. Со мной был товарищ по имени Борис, я свел с ним знакомство тем самым летом и как то сразу привязался к этому хромому, чрезвычайно болезненному, наивному мальчику, который верил всему, чтобы ему не сказали, но через год он уехал с отцом – в те счастливые времена в Дорварде его отец был единственным революционером, а еще через год в пансион м-сс Грубер пришло письмо, где сообщалось, что Борис умер в Литве. В этой богом забытой стране! Сырой климат его доконал. Неожиданно погода переменилась: я посмотрел на облака, рассеянные по небу, они из белых сделались темными, там и здесь стали сверкать молнии. Чуть ли не ежеминутно воздух сотрясался глухими раскатами грома, а те, как полагается, сопровождались ослепительными вспышками молний. Ясный день померк и в темноте, которая тревожила ожиданием беды, я поспешил домой. Хоть я был крещеный, схватил штаны и пустился бежать под сплошным дождем, напрямик через поле. Ведь не было никакой дороги вправо или влево. Путь был дальний, хотелось лишь одного – сократить его и я мчался во весь дух. Помню и по сей день, что на одном конце поля надрывно и пронзительно мычала испуганная корова. Еще бы! Такая гроза. Она широко открыла испуганные глаза, посмотрела на меня и испустила отчаянный вопль. Тем временем дождь усилился, вспышки молний чередовались со страшными ударами грома, от которых, так сказать, воздух дрожал и земля сотрясалась. Ко всему прочему стало холодно. Корова ревела, шарахалась в стороны, но никто не спешил ей на помощь. На бегу я оглядывался и видел, как она изо всех сил старалась вырываться, порываясь броситься за мной, но веревка держала ее привязанной к железному пруту, торчавшему из земли, как она открывала рот, чтобы испустить вопль, но громовые раскаты заглушали ее голос. Какой ужас она ощущала от сознания своего одиночества, было более чем очевидно. И вот я, со всех ног мчусь по полю, а над моей головой оглушительные удары грома с раскатами непрерывно следуют один за другим. Сам дьявол в небе. Страх дал мне силы бежать не зная усталости, а пока бежал, мне представлялись всякие ужасы – я бы сказал много ужасов разом нахлынули на меня. Не помню, где я упал и поранил ногу – я видел кровь, но не чувствовал боли. Наконец, показались крыши деревни, хотя еще издали я видел свет мерцающий в окнах. Так вот, те бледные огоньки, подбодрили меня и если вы, сэр, знаете цену простой радости, то поймете меня без дальнейших слов. А между тем, я все еще был на открытом пространстве, и мне было не по себе оттого, что с неба извергались не только дождь, молнии, но и гром, который не прекращался. Пруд тот, располагался на противоположном конце деревни, стало быть, я проник до нитки, когда достиг дома. А к тому времени все вокруг погрузилось в какую-то тьму египетскую. Мать увидела меня из окна, вышла на крыльцо, она была сильно встревожена, ибо мое отсутствие лишило ее привычного покоя и, полная тревожных мыслей, она то и дело подходила к окну. Оказавшись внутри, я не замедлил упасть на скамью, так как бег вымотал мои силы. Отдохнув, я сменил мокрую одежду на сухую и уселся подле очага, мать дала мне горячий чай с мятой и увесистый ломоть хлеба с маслом. Я сидел у огня, в котором потрескивали поленья, утирал капли влаги, стекавшие с мокрых волос на шею, шмыгал носом и при этом пил и ел с таким удовольствием, которое никакими словами не высказать. Как было не подумать о том, что тяжелее всего в те минуты приходилось бедной корове, не имеющей ни крыши, ни защиты. А ведь неистовый ужас послушного и безобидного животного был усугублен одиночеством! Отсюда вполне естественно, что она испугалась за свою жизнь в таких лишь до известной степени безнадежных условиях. Как она должно быть дрожала при каждом громе, при каждой молнии. Нельзя, однако, сказать, чтобы это не оставило в моей душе жалости. Я сто раз винил себя в том, что не отвязал корову, подумайте только, как мучительно хотелось ей домой, но мое бегство лишило ее всякой надежды на помощь. Все же нужно было освободить ее, но я так торопился сам спастись, что заставил бедное существо пережить много тревожных и отчаянных минут. В тот день я вышел из беды с разбитым коленом, тут подхожу к важному моменту своей истории – глядя на мать, которая накрывала стол к обеду, я понял и хорошо уяснил себе одну простую вещь, а именно, каким милым, безопасным и уютным был мой дом. Боже мой, как это прекрасно – быть дома. Теперь, по прошествии многих лет я уразумел, что был обманут видимостью беды, которая была всего лишь платой за предстоящую радость вернуться домой. Получается, что в начале великого блага может лежать зло. Вот видите, мы не знаем, что нас ждет. И разве не стоят наши труды и лишения последующего вознаграждения?
Надо ли говорить, какое впечатление произвело на меня все изложенное. Это была уже вторая и не менее интересная, чем первая история про корову, хотя не она сама, а суть заключает в себе всю историю. Минуту – другую мы оба пребывали в неподвижности и молчании: весь во власти чужого воспоминания я украдкой посмотрел на Амброза, теперь уже без снисхождения и подумал, какую ранимую, томимую печалью душу, таит в себе вялое и бесформенное тело. Но даже безобразная плоть, отяжелевшая и потасканная от старости и необратимых процессов в ней, имеет душу, которая мечется, трепещет, страдает, терпит и в обстоятельствах необычных способна излучать красоту, которая кажется решительно для нее невозможной. До этой минуты Амброз представлялся мне самодовольным демагогом и тупым обывателем, пребывающим в веселом состоянии духа, при этом он был простодушным настолько, часто ввязывался в невыгодное дело, доставлявшее ему большие волнения. И рассказ, и все в нем – говорило о неприкаянности. Этот дамский угодник был нелепо галантен и не раз, посмеиваясь над ним, я думал, что он похож на старого петуха с ощипанным хвостом. Хороший аппетит и стакан дешевого виски в течение дня поддерживали в нем бодрость духа. Он почти беспрерывно чернил Эбигейл за то, что она ущемляет его интересы, охотно давал ход любой сплетне о ней, - разобраться в их отношениях было очень и очень непросто. А между тем, он исполнял свои обязанности, не прилагая больших усилий, и не смотря на то, что он постоянно жаловался на то, что все не так, я видел, что жизнь он ведет достаточно удобную и комфортную в замке, похожем на дворец сатрапа. Еще скажу, что красивые обороты в его повествовании заставили меня проникнуться к нему уважением. Мы провели не один час за разговором и вместе пошли на обед. Все домашние сидели уже за столом. Я успел заметить, что Дин поменялся местом с Огастином и теперь сидел ближе ко мне. Что до Эбигейл, то эта злая фея Дорвардского замка, встретила меня пренебрежительным взглядом. Был мне рад только Дин, он светился лукавством и непринужденностью и если бы не присутствие экономки он провозгласил бы в мою честь громогласное «ура». Внимание всех привлек зеленый попугай, ни с того, ни с сего он стал повторять « а тебя», « а тебя»…. Следующая фраза была для всех такой же неожиданной, какой оказались для меня его многократно повторяемые слова. Насколько я мог понять из глухих, неясных звуков, попугай сказал: «Эх, милый человек». Все, кроме Эбигейл улыбались. Во время обеда она еще два раза посмотрела на меня, причем с таким презрением, что я даже напрягся, как если бы в меня сначала полетели камни, а вслед за ними отравленная стрела. На обед были поданы тушеная с томатами и перцем фасоль, копченый окорок, масло, сыр, кофе и булочки с мятной глазурью. Я заметил, что Дин покончив с едой, порывался уйти, он делал мне соответствующие знаки, двигался на стуле, не решаясь уйти первым, а когда я наклонился к нему, он пальцем показал на карман, в который засунул две булочки. Наконец, Эбигейл поднялась и, продолжая говорить с Гризеллой, направилась в соседнюю комнату. Я задержался в столовой, просто я дал ей время уйти из той комнаты, через которою мне предстояло пройти в парадную с тем, чтобы оттуда подняться к себе, где уже ждали меня Дин и Амброз – мы договорились после обеда сыграть в карты. Когда я стал подниматься по лестнице, на пути у меня возникла Эбигейл, я чуть было не остановился от неожиданности. Где-то на середине лестницы мы встретились лицом к лицу. Она стояла на две ступени выше меня и смотрела на меня сверху вниз, так что моя позиция была до крайности невыгодной.
-Можно вас попросить кое о чем, - спросила она не своим обычным голосом.
-Все что угодно, - поспешил я сказать, немного удивленный ее приветливостью, если вообще здесь уместно это слово. Неужели она перестала дуться на меня?
-Сегодня у слуг выходной. Каждый проводит время, как ему вздумается. Мы с Гризеллой поговорили, и я попросила ее собрать всех вечером в старой гостиной. Вас приглашаю прийти тоже. Случаются такие домашние собрания редко, не чаще двух раз в месяц. Будет чай и кексы. Марта, желая вам угодить, приготовила их по американскому рецепту. Почти все, исключая, разумеется, меня, интересуются вашей страной, которая, возможно, не самая худшая из всех, тем не менее, кое-кто даже мечтает уехать. По-моему, совершенно напрасно. Что тут говорить, если даже его светлость носится с этой мыслью. Так вот, пользуясь случаем, что у нас в гостях типичный представитель этой напыщенной нации, я прошу вас прийти и рассказать собравшимся что-нибудь интересное.
-С радостью, - отозвался я, чувствуя себя неловко под взглядом деспотичной экономки. Она была полна поистине несокрушимого достоинства в черном облегающем платье и в застиранных серо-голубых чулках. Мне не давал покоя вчерашний инцидент и, хотя я не боялся последствий, которые могли привести нас к дальнейшему отчуждению, я все же мучился виной и хотел получить прощение.
- Еще раз простите меня за вазу и за то, что.… Поймите, это вышло само собой.
-Вы совершили проступок, далеко превосходящий все, что я могла бы вообразить и представить себе, - сухо сказала Эбигейл. – По правде сказать, в жизни не видела бесстыдства, которое было бы больше вашего. Более сказать мне нечего.
С этими словами она продолжила свой путь, я посторонился, и едва Эбигейл оказалась за моей спиной, я, ободренный имевшим место разговором, устремился к себе в маленькую, уютную комнату, расположенную в самой глухой части замка. Последующие несколько часов мы провели с Дином за беседой. Со свойственной ему непосредственностью и склонностью к вранью, он развлекал меня разными историями. Я только удивлялся, что некоторые детали придавали оттенок правдоподобия им, пусть даже те истории были, так сказать, незрелыми плодами бедного воображения. Я сообщил ему, что вечером будет домашнее собрание и, несмотря на то, что я в опале, Эбигейл лично меня пригласила.
-Тебе лучше не ходить туда, - протянул Дин и, ожидая, что последует вопрос « почему», который я не замедлил выразить взглядом, он продолжил. – Там со всеми сидит Эбигейл, поэтому все идут неохотно. В прошлый раз, были сухари и вишневое варенье, а сама Эбигейл тихо сидела в углу и считала сколько кто съел сухарей.
-Я иду не затем, чтобы есть. Меня обязательно попросят что-нибудь рассказать об Америке.
Дин нашел этот довод бесспорным и пожал плечами. Тут я вспомнил о неприязни к нему экономки и спросил:
-А что у тебя с Эби? Она как будто ненавидит тебя.
-Я тоже ее ненавижу. Если бы не Чарльз она давно бы уже прогнала меня. Но Чарльз меня защищает. Оттого она и бесится. Называет меня дьявольским отродьем, бастардом, выродком. А! Я ее совсем не боюсь. Все что она может это – отвесить мне подзатыльник и пнуть ногой. Может, но боится, что я отомщу.
-А что, ты ей мстил?
-Много раз. На прошлой недели, она чуть не оторвала мне ухо за то, что я стащил колбасу. Знаешь, что она получила от меня?- соль и красный перец. Я их подсыпал в чай. Она только один глоток сделала. А чай был как огонь. Она остолбенела, выпучила глаза, а потом стала обмахиваться салфеткой, хватая ртом воздух, как рыба. Я мигом придал себе невинный вид и как ни в чем ни бывало, сижу и жую бутерброд. А когда услышал «кто это сделал», поднял глаза и посмотрел на Эби больше нее самой удивленный.
-Ты не признался?
-Мне что жить надоело? Все равно, она догадалась, поглядела на меня через стол и сказала сквозь зубы: « Я этого долго не забуду». Знаешь, ей еще повезло, что так легко отделалась. Пока у меня болело ухо, я принес со двора битое стекло и собирался насыпать ей в суп за ужином. Но передумал.
Тут как раз пришел Амброз и мы уселись за карты. Когда стемнело, нас позвали, и мы втроем переместились в дальнюю гостиную. Так называлась бывшая гостиная леди Гулд. Это была просторная комната, обставленная красивой резной мебелью, на стенах, затянутых бардовым шелком, висели портреты третьего и четвертого герцога Гулда. Первый был изображен с любимой кошкой на коленях. При жизни оба прославились: Седрик Гулд, дед Чарльза, был карточным игроком и двоеженцем, славу его упитанной кошке Тельме принесли ее размер и вес – она отличалась большой прожорливостью и питалась исключительно сливками и креветками, то и другое она поглощала в большом количестве. Не отказывалась и от речной форели и диких уток. Очень любила лосиную печенку и нежную вырезку косули. Эта ленива тварь предпочитала спать на соболиной накидке первой жены хозяина, лежавшей на полу возле камина, весь день проводила на подоконнике, так что последние годы наблюдала мир из окна, гостей не любила – от них много шума, из спальни выходила только для того, чтобы своим протяжным душераздирающим воплем позвать кого-нибудь из слуг, в прямую обязанность которых входило по первому требованию относить Тельму на подоконник. Причем не каждому отдавалась в руки, если появлялся тот, кто был ей не угоден, она, не терпя принуждение, начинала орать еще сильнее – на ее лице появлялось злобное выражение, ноздри раздувались, глаза становились стеклянными - и тогда в ее голосе пробивались возмущенные ноты. Вообще она была подвержена депрессии. Напрашивается мысль, что самыми сильными у нее ощущениями были одиночество и разочарованность, которую, должно быть, следует связать с чувством беспомощности. Можно пойти дальше и сказать, что у животных, как и у человека, с ростом веса снижается их жизненная активность. Вот почему лицо Тельмы, умершей от ожирения, всегда выражало страдание. Эту историю мне рассказал Амброз, с котором мы удобно устроились на диване, как раз напротив двойного портрета. Вместе с нами в комнате были Джейн с Адой, Гризелла, Дин и Огастин. На середине стола горели свечи, кругом стояли чашки на блюдцах, помимо них, большой керамический чайник, тарелки, кусковой сахар в круглой фарфоровой банке, и банка варенья, верх которой был закрыт куском льняной ткани, обвязанной вокруг бечевкой. Появились Марта с большим блюдом шоколадных кексов и ее поклонник м-р Акчим, живший по соседству. Он заявился в старомодном допотопном сюртуке, времен Диккенса. Надо отметить, что и внешностью своей он весьма гармонировал с эпохой великого писателя. Обращал на себя внимание его большой, пористый нос. Конечно, такой необычный нос постепенно обрел цвет, форму и длину, которая вполне годилась для памятника. Одних вид носа м-ра Акчима наводил на мысль о склонности его носителя к глубоким метафизическим выводам. Другие полагали, что владелец столь несуразного носа непременно является извращенцем, поскольку вид и длина его определенно мешают любовным отношениям. Следует сразу оговориться, что определять тип его характера мы не будем. Хотя бросались в глаза мягкие складки на его женоподобном теле, вежливые манеры и тихий, хорошо модулированный голос, без резонирующей силы и грубости, свойственных мужским голосам. Он выделялся из прочих своей нелепостью и манерой извиняться за малейшее беспокойство. Хотя м-р Акчим был душой женского общества, его интерес был направлен исключительно на одну из них – он постоянно смотрел на кухарку. Он робел открыто признаться в своих чувствах, томился любовным влечением, лелея мечту этой осенью осуществить любовное притязание. Отношения с Мартой набирали силу. Ему нравилось приходить на чаепитие в замок, здесь были не только увядшие, но по-своему привлекательные Гризелла и Марта,- Эбигейл он женщиной не числил, но и молодые, цветущие Джейн и Ада. Разглядывание женской груди, собственно, было его тайным занятием. Должно быть это как-то связано с мастурбированием, ибо м-р Акчим даже глядя на одетую женщину, испытывал сильное сексуальное возбуждение, так что после чая, когда все рассаживались на диванах, бывало, он куда-то исчезал. Возвращался он всегда с чувством вины и смущения. До меня он трижды приходил на чаепитие, не пропустил ни одного, душа его так и рвалась в Дорвардский замок на такие вечера, как этот, и к шести часам ноги сами несли его тело; этот маленький толстый человек, которого дома притесняли и унижали, мечтал жизнь вести совершенно независимую. Но он едва смел надеться, что после смерти отца станет самостоятельным, ведь неустранимой преградой этому началу была его властная сестра. Впрочем, это лишь мое предположение. Каким бальзамом для души были визиты в замок, он наслаждался удобствами, сытно ел, ему нравилось свободно разговаривать на людях, чувствовать их уважение, в котором ему, по неизвестной причине, отказывали дома – он жил со старыми родителями и младшей сестрой, старой невротической девой, которая доминировала в семье и испытывала к брату какую-то мазохистскую нежность. Учитывая, что она находилась в постоянном внутреннем конфликте, становится ясным, что ее озлобленность и раздражение значительно осложняли ему жизнь. Не составляет труда понять, что дома он мог часами сидеть, не говоря ни слова, дабы не взбесить сестру, а любой спор доводил бедную женщину чуть ли не до неистовства. Приходилось всегда соглашаться. Она внушала ему ужас и, скажу лучше - отвращение. Поэтому он решался на совместные прогулки или беседы от случая к случаю. Мистер Акчим (на первый взгляд ему можно было дать, пожалуй, не больше шестидесяти лет) был простодушен и, хотя он скрывал эти отношения, в доверительной беседе изливая душу, он невольно давал заметить, что его сестра играла роль домашнего тирана, так что признаваясь в том, что он не может с ней справиться, или устранить совсем, он признавался в собственной слабости, и, люди, которые ему сочувствовали, считали, что покорность, таким образом, может извиняться необходимостью. Всякий раз, когда в дверях гостиной появлялась фигура м-ра Акчима в сопровождении кухарки, дворецкий был недоволен, он сам питал нежные чувства к ней. Еще больше злило его, когда м-р Акчим, не подозревавший об этом, внушал ему преувеличенное представление о том, как много общего у него с Мартой и при этом держал себя так, словно он самый давний и испытанный его друг. Ясно, что самая неопределенность лишь умножала сомнения и усугубляла неприязнь к соседу. Признаться в чувствах ему не позволяла гордость, ибо Марта редко упускала случай посмеяться над ним. Вот и получилось, что в то время как м-р Акчим мучительно бился над тем, как бы расположить к себе кухарку, Амброз отгонял самую мысль о ней. Эти ее насмешки! Нагромоздившись в большом количестве в его душе, они часто давали себя чувствовать. С появлением м-ра Акчима он вдруг почувствовал, что они все разом встали в его сознании, и, глядя на Марту глазами своего ничтожного соперника, его взяло, не скажу – разочарование, но какое-то чувство удивления, что он волочится за ней. Это чувство повергло его в состояние внезапной растерянности. Взглянув на него, я понял, что он безучастен ко всему. С самым отсутствующим видом он прикрыл глаза, должно быть сытый обед и покой нагоняли на него дремоту. Пока еще меня не втянули в общий разговор, я наблюдал за всеми и был доволен тем, что меня не трогают. Между тем, Марта заметила, что дворецкий спит и, указав на него глазами, что-то шепнула Эбигейл. Та, скорее равнодушная, чем удивленная, пожала плечами и со свойственной ей грубостью бросила: « Ну хорошо, - что прикажете мне сделать»? И через плечо в задумчивости взглянула на кухарку. Смущенная вздохнула она и наклонила голову к м-ру Акчиму, который к этому времени сел поближе к ней.
-Я нуждаюсь в небольшой услуге, и лишь вы один можете оказать ее мне, - тихо сказала она.
Тот встрепенулся и ответил в большой готовности:
-Просите, что хотите.
Марта горящим взглядом следившая за ним, посмотрела вперед и опустила глаза в смущении.
-Только никто не должен знать, что именно я сказала вам это, - еще тише прошептала она.
Акчим, охваченный непреодолимым чувством, умереть за нее, воскликнул:
-Ах, молчите – говорить буду я!
Марта вперила в него странный взгляд, весь ее вид говорил о том, что она старается собраться с мыслями.
- Не могу! Не могу я без вас и все тут, - выпалил шепотом одуревший сосед.
-Пресвятая дева! Что на вас нашло?
-Я же говорю вам – не могу.
-Не можете!? Господи! А я тут при чем?
-Счастлива та женщина, которую достойный мужчина хочет облагодетельствовать и утешить.
-Вы в своем уме? – полюбопытствовала кухарка, вглядываясь с изумлением в лицо соседа. – Видите вон там дворецкого? Посмотрите на него и скажите, что вы видите.
- Где ему было удобно, там он и устроился. Он спит, наверное.
-Вижу сама, - вполголоса ответила кухарка и многозначительно посмотрела на м-ра Акчима. – Неужели вы не видите, что у него расстегнуты брюки. Идите сейчас же и сядьте вместе с ним с видом, что я не давала вам никакого поручения.
-То есть?
- Сделайте что-нибудь – ведь вы же мужчина, - повелительным тоном сказала кухарка и пристально посмотрела на м-ра Акчима, заметив промелькнувшую нерешительность во взгляде своего вздыхателя. Тот встал, с места обвел взглядом присутствующих, убедился, что никому нет до него дела, опрометью бросился к дворецкому, являвшему непотребный вид.
Марта уткнулась подбородком в ладонь руки, локтем опиравшейся на стол и краем глаза поглядев на Акчима, дала ему знак действовать без промедления. Акчим, встал боком к спящему дворецкому и слегка пнул его ногой. Потом обернулся, увидел, что тот проснулся и глядит на него, сказал:
- Встаньте, я не хочу причинять вам беспокойства, я хочу помочь вам….
-Зачем?- спросил дворецкий, приподнявшись.
-Повторяю, я не хочу причинять вам никакого беспокойства…
-Зачем вы меня пнули?
-Марта прислала меня сказать, - произнес м-р Акчим и запнулся, удивленный тем, что сказал это.
-Что?
-Ничего. Сами спросите у нее.
-Да вы спятили что ли?
М-р Акчим, выразительно опустил глаза, потом сделал малопонятный знак. Но, видя, что все его ухищрения никак не действуют, решительно сказал, наклонившись к дворецкому:
-Ну, как хотите!
Амброз тяжело вздохнул, повел рукой и, подняв искаженное гневом лицо, вспылил:
-Да что же случилось?
-Хорошо сидите? Пробудившись, узнаете свой позор.
-Что за чертовщина!- воскликнул дворецкий, не уверенный в самом себе, все происходившее казалось ему бессмысленным.- Знаете, мне хочется послать вас туда, где никто не знает вас даже по имени – это лучшее, что для вас может быть. Немедленно объяснитесь.
-Уж я всячески старался, - отвечал тот, - но вы ни за что не хотите сдвинуться с места. Ну, толкнул ногой. Что я сказал вам?
- Филмер, вы, что головой ударились, пока шли сюда? – еще более внушительным тоном сказал дворецкий.
-Неужели о другом нельзя подумать? Хорошо, эта часть моего объяснения не потребует долгих слов, - говорил м-р Акчим, поглядывая на кухарку, следившую за мужчинами с большим интересом. - Я беру на себя смелость сказать, что хоть вы и устроились удобно, ваша поза была неестественной в определенном смысле … - он поднял руку, как бы для того, чтобы выразительным жестом завершить объяснение. – Но выслушайте то, что я хочу сказать вам. Своим видом вы смутили не одну чистую душу. Женщины шептались, охали, пришли в ужас.
Амброз, как громом пораженный этими неожиданными словами, подумал про себя, что Филмер либо пьяный, либо помешанный. Во всяком случае, он не состоянии понять, что тот говорит и зачем. Может, встряхнуть его как следует? Конечно, это никак не отразится на его умственных способностях, но все же.
- Я вас спрашиваю, - перебил дворецкий, - не била ли вас сестра по голове чем-нибудь тяжелым, перед тем, как вы пришли сюда; и что за причина этого?
-Посмотрите-ка на свои брюки, увидите сами.
Дворецкий ахнул от изумления.
-Черт, не знаю, что и сказать, - с досадой протянул он, после того, как застегнул проем на пуговицы.
-Теперь вы сами понимаете, как бы обернулось дело, если бы я не вмешался. Простите, что пнул: но что мне оставалось делать при столь трудных обстоятельствах? Как мужчина я принял свой стыд за меру должного для вас, но… вы меня понимаете.
-Вы уж меня извините.
Сказав это, Амброз поднялся, взял под руку Филмера и повел его в соседнюю комнату, там, в углу под тюфяком была спрятана бутылка виски. Филмер пошел с ним без всяких отнекиваний.
Между тем, за столом продолжался разговор о женском образовании в школах-пансионах, это был обмен мнениями, все сводилось в основном к ностальгическим воспоминаниям о прошлом веке. Не принимала участия только Эбигейл. Она сидела в мягком, высоком, обитом красным шелком кресле с золочеными ножками в виде грифонов и, склонив голову в сторону говорившей Ады, внимала ее словам. На кушетке Огастин что-то говорил Джейн, та хихикала, то и дело прикрывая рот рукой. За спиной Огастина стоял Дин и тоже смеялся. Я перевел взгляд на Гризеллу. Эта скромная женщина почти все время сидела молчальницей, не то чтобы она держалась отстраненно, просто она умела слушать. Я запомнил ее слова: « Сейчас никого не удивляет, что деревенская девушка не умеет доить корову, ничего не знает про травы, не способна к рукоделию, – а потом сама же из этих своих неспособностей черпает доказательство, что современная жизнь приводит людей к общественному безумию». В ответ на это Марта сказала: « А вот как поговоришь об этом с вами, все больше убеждаешься, что мы живем в ужасное время. Ох, совсем безбожное! Раньше даже сочувствие было делом милосердия». По напряженному молчанию других женщин, она вдруг поняла, что сказала лишнее, все догадались о ком идет речь, и Марта, обменявшись с прачкой взглядом, умоляющее посмотрела на Эбигейл, но ее мысли были заняты другими делами, чтобы еще слушать пустую болтовню. Положив руки на колени и выпрямив спину, она чуть ли не час восседала в кресле совершенно неподвижно, являя собой статую протестантской умеренности и кротости. Однако она была всего лишь маленькой некрасивой женщиной, припадающей на левую ногу. Создавалось впечатление, что ею движут исключительно высоконравственные помыслы, она решительно честна, бесхитростна и испытывает отвращение ко всему плотскому. Но молодая здоровая плоть алчна и невосдержана, один бог знает как. Уже от одного Чарльза я узнал много такого, о чем и не догадывался. Пребывая в замке, я заметил, что Ада была влюблена в Оливера, механика. В этот вечер у них было свидание, и после семи Ада незаметно выскользнула из гостиной. Как раз в то время к Дину и Огастину, игравших на полу в кости, присоединились Амброз, Филмер и я в их числе. Конечно, женское общество не хотело терпеть наше отсутствие и, воспользовавшись тем, что на стол подали вяленое мясо и маринованные персики, они, смеясь, и перебивая друг друга шутками, настояли на нашем возвращении за стол. На большой белой тарелке лежали шоколадные кексы, я смотрел на них еще издали, прежде чем сесть за стол, а когда сел, то хотел было взять один, но Амброз, сидевший рядом, прикрыл рот рукой и тихо сказал:
-Послушайте, возьмите так, чтобы Эбигейл не заметила.
-Почему?- спросил я, все время поглядывая на нее, такую степенную и благоразумную.
-Да потому, что она все кексы уже посчитала и распределила их по числу гостей. Дайте ей отвернуться, и сразу берите.
-Довольно, чего там! - усмехнулся я и в этих немногих словах, сдерживая смех, выразил свое удивление. – Все это глупости! Что за странная фантазия пришла в голову тебе? - А затем прибавил: - Я это должен терпеть? Разве ты уже не друг мой?
-Тихо, не устраивайте скандала.
-Так ведь тут дело касается всего лишь кекса.
-О, конечно! Вы просто не знаете, что и как полагается…
-Да, от всего этого у меня в голове помутилось.
- Вы хорошо сделаете, если доверитесь тому, кто имеет понятие, и вообще давайте уговоримся больше не спорить.
К этому времени подвыпивший Амброз обрел словоохотливость и взялся рассказать одну крайне запутанную историю, но выяснить все сплетение событий мы не смогли. Начав свой рассказ с одичавшего в одиночестве бродяги, он переметнулся к могильщику, который возвращался вечером с кладбища, чтобы принять контрабандиста, приходившегося ему сводным братом. Тот, подавленный горем, стоившим ему немало слез, спешил на похороны своей младшей дочери, но опоздал. Могильщик с фонарем в руке вернулся домой и услышал доносившийся из окна шум – смешение громких воплей и бьющейся посуды, стонов и проклятий, недоговоренных слов и восклицаний. Достаточно этой замысловатой выдержки, которую я привел из рассказа, чтобы понять каким нелепым был весь рассказ. Он назвал место – Шантлу, в провинции Турень. Но такого случая никогда там не было. Поэтому даже реально существующие места не могли придать ни малейшего правдоподобия такому мрачному рассказу. Даже Огастин, у которого нет ни воображения, ни умственных способностей, и который всегда был в единомыслии с ним, не мог придумать ничего неудачнее. В одном месте Амброз запнулся, видимо воображение его истощилось, и Эбигейл воспользовалась этим.
-Про это мы уже слышали, - сказала она. – Пусть лучше Гризелла расскажет, как она потеряла зонтик, но нашла кошелек. Только ты, милая, все рассказывай по порядку.
-Нет, погодите, не слушайте ее пока. Я ведь еще не рассказал про священника, который с веревкой на шее и тяжелым крестом….-возразил дворецкий, осеняя себя крестным знамением.
-О господи! – воскликнула Эбигейл, бросив взгляд вверх. – Прости нас, если иногда недостойная мысль о том, что мы нужны ему, приводила нас к тому, что мы относились к нему с терпением, но избавь нас от наказания слушать его. Простите за грубость, но что у вас за привычка говорить без всякой меры и толка? Вы даже трезвый говорите не то, что нужно, да и вообще любите непристойности.
-Уж я знаю, что говорю, - возмутился дворецкий.
-Как бы то ни было, видно виски ударило в голову вам; речь какая-то нескладная.
-Я в своем обычном состоянии – это очень важно! Но когда мне случается выпить, слова выходят из меня сами собой, причем с удвоенным количеством и Боже сохрани Вас оказаться рядом в такую минуту, понимаете? Я хочу только сказать, что одним своим видом вы заставите меня потерять чувство меры.
- Я вас поняла, - махнула рукой Эбигейл. – Сдается мне, вы постепенно сходите с ума. Обратим внимание наше к Гризелле.
Амброз остолбенел, слишком неуверенный в том, что его история хуже, чем история прачки. Все, за исключением Эбигейл, хотели ее услышать, поэтому она окинула всех пронизывающим взглядом – не собирается ли кто оспорить ее право направлять беседу. Все ждали, что я скажу. Но я молчал. Мне совсем не хотелось выставить себя не согласным с ней.
-Я уже столько раз об этом рассказывала, - промолвила немногословная прачка, затем посмотрела на Амброза взглядом, который не поддается описанию, положила руки на стол и уперлась локтем правой в бок дворецкого, чьи даже мелкие просьбы, были особым предметом ее забот. Несравненный Амброз вздохнул с умилением и, хотя это чувство исчерпывалось одним единственным вздохом, Гризелла засияла радостью. Казалось, свет солнца упал на ее лицо. Она вдруг вспомнила о выстиранных носовых платках Амброза: отглаженные и сложенные в четыре слоя они лежали наверху ее комода. Не успела она подумать, что не мешало бы их сбрызнуть лавандовой водой, перед тем как отдать Амброзу, тот приподнялся и, сделав едва заметное движение влево, навалился всей тяжестью тела на локоть прачки. В ответ на это бедная женщина пришла в чрезвычайное возбуждение. Даже испытывая неудобство и чувствуя себя в стесненном положении, она захотела помолиться, воодушевленная благодарностью. «Благословен господь!» сказала она про себя, и в голове ее пронеслось несколько мыслей, среди которых были такие: « Как жаль, что я не накрасила губы. А волосы? Экая досада. Достойный удивления веник на голове у меня. Надо было бы надеть синее платье в мелкий горошек с кружевным воротником…. Да отпустит Господь нам долги наши и да благословит нас.… Она не смогла закончить молитву, в которой собиралась вознести благодарность за себя, очищенную скорбью, сердце ее учащенно билось от радостной мысли – она загорелась желанием немедленно отправиться на кухню и приготовить свинину с капустой – излюбленное блюдо Амброза. Вместе с тем в ней зародилось какое-то новое, особенное чувство, требующее осмысления. С этим непонятным чувством она посмотрела на Амброза, подумала, как было бы хорошо склонить голову ему на плечо, нашла и сжала пальцами серебряную булавку, подаренную ей Амброзом на прошлое рождество, но тот, чья близость растрогала ее и наполнила смирением, ухватился всеми силами души за слабую попытку умаслить Марту. Причиной был большой кусок пирога с луком. И что же? Бедная Гризелла, взгляды на которую не были достаточно проникновенными, не знала, что он уже придумал, как ему скорей отделаться от нее, чтобы на кухне обхаживать Марту. И, конечно же, она совсем не думала о пироге, решение было уже принято. После собрания она собиралась отнести пирог Амброзу. Из этого вы видите,- кто стоял за пирог, а кто – за любовь.
Я не мог не заметить на себе томные взгляды Джейн, при этом она не смущалась, когда я смотрел на нее. Это была миловидная девушка по-деревенски простая и непритязательная в отношениях, но смесь вздорности и кокетства придавали ей легкомыслие и повышенную подвижность. Было очень интересно наблюдать как она флиртует со мной. Желание понравиться мне стало навязчивым состоянием этой зрелой и неудовлетворенной девушки, и быть может, она подсознательно искала способ возместить свою слабость с помощью энергии мужчины – ей не недоставало проникновения внутрь самой себя. Именно трудности такого рода и заставляли Джейн, которая была не состоянии развивать положительное отношение к миру иначе, чем через отождествление себя с любимым мужчиной, быть активной, чувствительной, нежной. В дополнение скажу, что все вместе есть функция самовыражения. Я уже дал понять, что жизненный путь Амброза определялся принципом наслаждения, рассматривая его как личность нельзя сказать, что он был сложной формой жизни, для которой характерны пульсирование большого количества энергии, определенная полярность, много степеней свободы движения и связь организма с внешним миром. Насытившись вяленым мясом и перестав быть объектом внимания, он потерял интерес к обществу и все чаще смотрел в темноту соседней комнаты, допуская, что будет приятно раствориться в ней. К тому же, там под тюфяком спрятаны виски и имеется кушетка, а поскольку сытый Амброз всегда становился ленивым, то в этом состоянии он стремился к преодолению силы тяготения, а для осуществления этого стремления как раз подходила кушетка в соседней комнате. А вот Эбигейл обладала удивительной способностью сдерживать напряжение, что следует рассматривать как результат приобретенного контроля над собой, поэтому она могла долго терпеть неудобства, не испытывая потребность в немедленной эмоциональной разрядке. Но любой организм рано или поздно выдыхается в долгой изнурительной жизненной суете. У нее уже развивались невротические черты, и внутреннее напряжение легко снималось одним простым криком. Инцидент с вазой был тому доказательством. Я не собирался привлечь ее внимание к себе, но это получилось само собой. В углу, на маленьком столе с красиво изогнутыми ножками, стоял проигрыватель американской фирмы « Колумбия». За ним, имелась стопка пластинок, я перебирал их, когда ко мне подошла Джейн.
-Вам нравится музыка? – спросила она.
-У вас тут, я погляжу, превосходная коллекция: Сестры Эндрюс, Литтл Джек, Бесси Смит, Джим Дюранте. Кто их слушает?
-Никто. Хотите послушать кого-нибудь?
-Хотел бы, но боюсь рассердить Эбигейл.
-Она не рассердится, если вы поставите Бенни Гудмана. Она его обожает.
-В самом деле?
Тихо полились мягкие ленивые звуки: второй песней была «Техасская чайная вечеринка». Я заметил, моей спиной Эбигейл, но вида не подал и, желая угодить ей, сказал, повысив голос:
-Божественные звуки! Сколько поэзии в этой музыке!
-Чепуха! Тут нет никакой поэзии, - возразила Эбигейл, но тон был благодушен.
-Предположим, что нет, - согласился я. – Тогда скажите, что вы в ней находите?
На это она мне:
-Настроение и больше ничего.
-Но, - говорю я.
-Какие еще но, - полусердито отрезала Эбигейл. – Вы, должно быть, не знаете поэзию, если находите ее в тоске, терзаниях души, печали и скорби. Эти чувства никак не могут быть поэтическими, равно как и все греховное. Но можете судить об этом сами хотя бы потому, что вы американец, который чудесным образом очутился здесь.
-Не буду спорить. Я всего-навсего дилетант, который ценит настоящую музыку. Позвольте сообщить, что среди всех великих музыкантов Гудман для меня первый. Он мой!
-Ваш Гудман?!
-Мой!- воодушевленно подтвердил я. – Вы удивлены?
-Вроде бы да. Вот уж не думала, что мы сойдемся в отношении Гудмана. Он мне тоже нравится. Ну, а что до вас, то угодник из вас неважный.
-Если честно, я хотел обратить на себя ваше внимание, насколько это возможно в моем затруднительном положении.
-Старайтесь не нуждаться в этом. Я уже дала всем понять, что никакие ухищрения не могут оказать хорошее воздействие на меня, что желание подлизаться ко мне было бы нескромностью. Не надо уподобляться пастырям, которые сходили на землю для дела искупления. Я, возможно, не совсем ясно выразилась. Чтобы заручится моей поддержкой, и снискать уважение, хватит и простой искренности. Но когда дело идет о великой музыке,… не надо ставить условием спасение своей репутации. А впрочем, все равно спасибо. Я не слышала эту музыку с прошлого года. Кажется, последний раз, эту пластинку ставил бывший садовник Хогг, с тем, чтобы умилостивить меня, разумеется. Но я все равно уволила его за кражу крыжовника.
-Нет, м-сс Тролопп, за то дело был уволен Флойд, - вмешалась Джейн.
-Ага, стало быть, Хогг волочился за женщинами. Давайте вернемся за стол. Мы несколько отвлеклись и рискуем пропустить рассказ Огастина.
Однако его история была скучной и совсем не интересной, он и сам понимал это и торопился закончить. Не в самый важный момент своего рассказа, он дал себя остановить, и Амброз решив видимо, что всем надоело слушать неотесанного деревенщину, обратился к женщинам, которые не переставали говорить, с предложением послушать меня. И тут же в единодушном порыве все выразили желание услышать мою историю.
-Давайте помолчим и послушаем, что Обри расскажет, - обратился к шумной компании дворецкий.
-Прошу вас, порадуйте нас интересной историей, - присовокупила Гризела.
- Я не успел закончить,- напомнил о себе Огастин.
-А про что там?- полюбопытствовал дворецкий. – Послушайте, мы не дали ему закончить историю.
-Вот пусть бы и не начинал, - отрезала Эбигейл.
-А что? Совсем плохая? – возразил Огастин.
- Смехотворная. Какая-то мешанина из глупостей, но два-три места были забавными. И все же до Амброза тебе очень далеко! - заявила Эбигейл. – Да что там! Он какую историю не возьмет, всяк у него выходит виновной женщина.
-Чему же тут удивляться!- выпалил Амброз, разводя руками. - Да и есть ли на свете другие сюжеты?
-Ах, вы тем и живете, что разоблачаете неугодных женщин – возмутилась Марта. – Вам ли творить суд над нашей сестрой?
-А я вообще низкого мнения о человеческой природе, - стал оправдываться дворецкий.
Тут вмешалась Эбигейл.
-Мистер Маршалл, уважьте наше любопытство к тайнам, расскажите что-нибудь. Вы образованный юноша. Это так же очевидно, как то, что вы чужого ума не ищите.
Но не успел я даже подумать какую историю мне рассказать, как в комнату вошел бодрый и веселый Чарльз. Он попросил всех занять свои места и спросил:
-Что у вас тут происходит?
-Каждый по очереди рассказывает свою историю, - поспешил сообщить Дин, больше всех обрадованный появлением герцога.
-А что Обри рассказал?
-Ничего. Сейчас как раз его очередь – был ответ.
-В таком случае я тоже его послушаю, - сказал Чарльз. Огастин уступил свое место, он сел и жестом поощряя меня начать, подмигнул Дину.
-Так уж и быть, - задумчиво произнес я, обращаясь ко всем. – Но сначала я хочу поделиться с вами своей радостью, и скажу, что мне нравится быть здесь, среди вас. Знаете, мне кажется, что я мечтал оказаться в старинном английском замке еще до того, как увидел их в фильмах и прочел « Кентервильское приведение».
-Слава богу, вы уже в замке и притом старинном, - вырвалось у Гризеллы.
- Приехав в Англию, я не сразу увидел, что открылся путь к осуществлению моей мечты, - подхватил я. – Одним словом, отныне и впредь вы будите видеть счастливого человека. Я словно во сне. Уверяю вас, я ценю честь, которую мне оказывает его светлость.
-Раз вы уже здесь, то мое дело сделать ваше пребывание удобным и приятным, - сказала Эбигейл, охваченная каким-то внезапным приливом радушия.
-Мы все устроим так, чтобы ваше положение было беззаботным и романтичным, - добавила Марта.
-Все это я беру на себя, - вмешался Чарльз, приободренный при взгляде на смеющихся слуг. – Ну, да ладно. Твоя история.
-Она забавная, да к тому же еще и английская, - возобновил я свою речь. – Источник – Вальтер Скотт. Он пересказывал этот случай не один раз после того, как услышал от одного из своих друзей, а тот видел все своими глазами. Дело было так. Как-то днем, некий кровельщик сорвался с крыши Сент-Джеймского дворца и камнем полетел вниз. К счастью для него он угодил прямо в кучу навоза. Мимо проходил садовник с лопатой. « Вы мне помогите, а то я никак не могу выбраться» - попросил потрясенный кровельщик еще способный что-то говорить. Садовник оказал просимую помощь, он делал вид, что ничего не случилось, но про себя подумал: « Вот осел! Сам в навоз полез». Конечно он не оставил без внимания, что кровельщик когда стал на ноги, стал смотреть на верх и все вздыхал. Тем не менее, он дружелюбно посмотрел на кровельщика и бесхитростно спросил: « Как вас по имени?» « Якоп»- ответил тот. « Вы Якоп, случайно не знаете, который час»? На это кровельщик невозмутимо ответил: « Вероятно около трех. Когда я летел мимо окон третьего этажа, я заметил, что накрывали на стол». « А, так вы летели»? – спросил садовник, мало-помалу догадываясь, что говорит с помешанным. «Ага, с крыши», - отвечал кровельщик, который вовсе им и не был.
Все рассмеялись, даже меланхолично настроенная Эбигейл. Неужели я сломал лед?
-Прошу прощения, - сказал Чарльз беря меня под руку. – Я собираюсь похитить Обри.
Все и каждый изобразили огорчение по этому поводу. Когда мы вышли из гостиной и проходили через смежную комнату, Чарльз, сжимая мою правую руку, спросил:
-Тебе скучно не было без меня?
-Дин меня развлекал. Но, как и ты, и он исчезает.
-Ты ведь знаешь, какой он у нас неожиданный. Я хочу оставить Дина при тебе, используй его. Но если ему что-нибудь взбредет в голову, его не остановишь. Пойдем в библиотеку и что-нибудь выпьем. Там и поговорим.
Уютный полумрак, в полном и прямом смысле этого слова – вот что определяло атмосферу библиотеки, где духовное и материальное дополняли друг друга. Стены и потолок с резным карнизом были отделаны дубом, вдоль правой стены образуя угол короткой частью, тянулся открытый книжный шкаф. Напротив, над топившимся камином из белого мрамора, висел превосходный пейзаж в тяжелой золоченой раме. На середине комнаты располагался диван, за ним горел торшер с желтым абажуром. Перед сводчатым окном с широким каменным подоконником стоял массивный письменный стол. Каменные плиты пола покрывали шерстяные ковры с восточным орнаментом. Меня поразила и привела в восторг такая красота.
-Боже, какую удивительную жизнь можно вести в этом великолепном старинном замке, - сказал я, охваченный благоговейным трепетом. – Должен быть ты счастлив, что можешь это позволить себе.
-Неприятная сторона жизни в замке в том, что приходится платить налоги, содержать слуг, покупать уголь, оплачивать расходы, погашать свои долги кредиторам. На жизнь мне остается мало, - ответил Чарльз.
-Как же мне нравится аромат роскоши, - простонал я, устраиваясь на диване.
-Мне тоже, - подхватил Чарльз с лукавой улыбкой.
-Беру тебя в сообщники.
-Виски и свечи создают дивную гармонию, не так ли? - сказал Чарльз, протягивая мне стакан с янтарной жидкостью. – Нет ничего более упоительного, чем тихий вечер у камина с очаровательным другом, который не шутя смотрит на меня взглядом, хватающим за душу.
Беседовать с герцогом было чрезвычайно интересно. Он разнообразил разговор разными темами, говорил эмоционально и часто двусмысленно. Тогда как я был вял: обычно я впадаю в это состояние после двух стаканов виски, не говоря уже о том, что в поздний час усталость делает меня таким. Я сидел в углу дивана, опустив ноги на пол, усталость нагоняла на меня дремоту, я зевал и слушал Чарльза, который тоже время от времени погружался в дремоту. Вскоре он уснул. За время продолжительной беседы мы выпили бутылку виски. Пустая она стояла на ковре, стаканы тоже. Где-то в отдаленной комнате часы отбили полночь. Я поднялся, окинул взглядом полутемную комнату, находиться в которой было для меня удовольствием, взгляд задержался на фигурах камина – два нагих мальчика, тела которых обладали прекрасной соразмерностью, в красивых позах поддерживали гирлянду из дубовых листьев и желудей. Огонь уже угас, на куче пепла тлели раскаленные угли. Мерцающий свет от них падал на выпуклые части ангелов. Я смотрел, смотрел, и душа моя наполнялась чем-то большим, чем простым умиротворением, и это сложное, невыразимое чувство как бы служило дополнением тех слов, которые томили меня: « Совершенство». « Красота». «Покой». Глядя на неподвижное тело Чарльза, я подумал, что дают ему преимущества привилегированного положения и какой бы образ жизни он вел, если бы занимал самое незначительное общественное положение? Затем убежденный в том, что нельзя оставаться непогрешимым, имея беспокойную и изысканную душу вдруг подумал о себе. Собственно, в эту тихую минуту, затмившую напряжение ума и тщетность жизненной суеты, я проникся желанием всю свою энергию отдать на поиски красоты и служения ей. В замке было много красивых скульптур, картин, мебели и прочих вещей, доведенных до такого совершенства, что, полный восхищения, я испытывал желание владеть ими. Я живу скромной жизнью. Чтобы обогатить ее книгами и материальной красотой, мне нужны деньги. Вдруг я подумал о женщине, которой ничего из этого не нужно. Понять ее спокойную душу – это значит проникнуться чувством глубокого уважения. Вместо этого ее поносили, над ней насмехались, отказывали в уважении, но боялись. Было в этой маленькой и грубой женщине то, что делало ее сильной. И как могла честная, преданная, неумолимая женщина быть равнодушной к красоте, которую не могло обесценить даже время? Выходя из библиотеки, я увидел свет в гостиной, где некоторое время тому назад состоялось домашнее собрание. К моему удивлению в кресле дремала Эбигейл. Мне представился случай внимательно ее разглядеть. Руки покоились на коленях, ладонями вверх, - одна на другой, голова была опущена на грудь с небольшим наклоном к правому плечу. Несмотря на то, что она отдыхала, я нашел ее позу неестественной. На столе лежала освещаемая колеблющимся светом догоравшей свечи, толстая книга с закладкой в виде синей шелковой ленты. То был второй том « Протестантского помощника» озаглавленный «Религиозный долг, как руководящая сила в смиренной и благопристойной душе». Автором значился Иаков Френсис Клинкер. Конечно же, сия книга подобает и приличествует образу мыслей Эбигейл, но будь вместо нее, допустим, « Молот ведьм», я бы удивился меньше. В этот поздний час все уже спали в своих теплых постелях, кроме Чарльза, остаток ночи он, наверное, проведет на диване в библиотеке и Эбигейл, - совершенно успокоенная, она заснула в кресле. И меня, который хорошо осведомлен об этом. Перед уходом я еще раз посмотрел на Эбигейл и тихо вышел.
Ночь была лунная и ветреная. Незабываемая ночь. В спальне было как-то особенно уютно: на столе горела бронзовая лампа с абажуром из зеленого стекла, пожалуй, нет ничего более упоительного, чем ленивая нега и тишина, исходящие от старой мебели и стен в поздний час, в таком месте, как это. Здесь началась моя необыкновенная интимная жизнь. Спасибо Чарльзу. Вот оказал мне услугу. То, что я обрел в его замке, мне просто казалось чудом. Он мне нравился, и симпатия была взаимной. Я закрыл дверь, прислонился к ней спиной и, на минуту вообразив себя герцогом таким-то, стал внимательно рассматривать обстановку; мой взгляд, переходил с одного предмета на другой и кажется, не упустил ничего примечательного, при этом я слышал шум трепетавшей в порывах ветра листвы, доносившийся с улицы. Потом подошел к окну и посмотрел в темноту, внутренний свет освещал зеленые ставни и выступ окна; за ним кончался свет и начиналась тьма. С высоты третьего этажа я видел деревья в средней части, вернее я видел блики лунного света на поверхности листьев, а подняв глаза можно видеть лишь черное небо да какую-нибудь звезду. Многообразие видов старого парка сейчас терялось в сплошной уже не поддающейся описанию темноте. Где то в ней послышался глухой, отрывистый лай собаки, затем раздался свист сторожа, подзывавшего ее. Я вспомнил, что по ночам в парк выпускают трех собак и невольно в моем полусонном сознании возник облик старого Хэзлита, ведь это его сын сейчас бродит вокруг замка с собаками. Мне захотелось увидеть его. Амброз описал его в трех словах: « скверный человек, ничтожество». И, однако, его поношение заставило меня загореться еще большим усердием. Я лег в постель лицом к окну и стал думать о прошедшем дне, но мысли не шли дальше Чарльза, расточавшего силы свои на блуд и Эбигейл, не подверженной греху. Внизу под дверью вдоль порога имелась щель, через которую в спальню проникал тусклый свет из коридора. Неожиданно оттуда донесся какой-то шум. Я оторвался от окна, чтобы посмотреть на дверь. Как раз в этот момент, свет, исходивший из щели, померк в одном месте, словно чьи-то ноги заслонили свет. В голове пронеслось, что за дверью кто-то стоит. Пока я пребывал в недоумении, послышался шорох, затем дверная ручка стала опускаться, дверь тихо заскрипела и…. Какая была мне от этого опасность? Сам я не понимал, что происходит. Во всей силе своей стоял страх у меня перед глазами, пятная издерганное сознание смутными образами приведений, и страх, как леденящее движение души, сковал меня бессилием. И как бы я не противился ужасу, думать приходилось о соответственном; под тяжестью страха моего я приготовился увидеть приведение, которое, если отбросить предположение, что оно сбилось с пути, пришло за мной или ко мне. Но если рассматривать приведение в замке как субъект его прошлого, как я могу быть сопряжен с ним? С трудом соображая, я не отрывался от двери, которая открывалась как-то рывками, с большим затруднением. Я сидел в постели спиной к окну и лицом к двери, которая была освещена лунным светом. Тут я вспомнил о Боге, как о хорошем судье и защитнике, но все, что я мог, это сказать про себя « Господи» - молитвы я не знал. Когда же, наконец, дверь открылась на всю широту проема, на пороге возникла старуха в белом чепце с отворотами, ее худое лицо обрамляли спутанные пряди седых волос. Весь ее немощный вид говорил о том, что она крайне тяжело сознает свои годы. Она была одета в растянутую шерстяную кофту табачного цвета, на которой поблескивали медные пуговицы. Ее рот был приоткрыт, как если бы она дышала ртом, пустые глаза выражали безжизненность и в то же время взгляд был растерянным. Нерешительность, с которой она вошла, как бы говорила, что она была неосведомлена в своей неосведомленности и шла, не зная куда, при этом она вела себя, как слепая. С трудом поднимая ноги, она сделала несколько шагов вглубь комнаты и остановилась, вытянув вперед трясущиеся руки. Это было невероятно! Лучше бы в мою спальню вломился дьявол или водворилось приведение. Мне до сих пор еще кажется, что я безгрешен, следовательно, наказывать меня вроде бы и не за что, а потому пусть меня кто-нибудь из них возьмет под свое покровительство, если Бог все-таки оставил меня. Конечно, я понимаю, что жалость их не усладиться тем, что я не виновен. Я отчаялся уже в том, что могу рассчитывать на помощь Господа и если он не оградил меня от дьявола, дабы уклонилось сердце мое к словам лукавым, нехотя и кое-как я за него буду держаться. Чтобы спасти свою жизнь я был готов служить дьяволу и договориться с приведением на их условиях, понимая даже, что с понятием зла связана мысль о противодействии добру, а это уже крайний случай. Минуту назад я считал себя в полной безопасности, а сейчас трясусь от страха, глядя на слепую старуху, которая крепко ухватилась за край кровати и повернулась к окну, за которым качаются деревья с поднявшимся ветром; ее намерение было мне еще не понятно. Иногда жизнь творит безумства. И я свидетель одному из них. Представьте себе, та, кто нарушила мой покой, направила свои шаги к кровати бормоча : « не переставая плакала о ней, но ты Господь осушил потоки материнских слез, отпустил все долги мои и вот уже скоро приведешь меня к благодати Твоей». По пути она опрокинула стул, на спинке которого висела моя одежда. Я видел ясно, что она не обратила на это никакого внимания и заключил отсюда, что, стало быть, она еще и глухая. Как это может быть, пронеслось у меня в голове. Я затем пришел в ужас оттого, что добравшись до кровати, она села на край, беззвучно шевеля губами. Мало того, ее право плечо покрывала пыль, а большой и указательный палец были затянуты паутиной. Должно быть, по пути сюда она прижималась к стенам. Минуту, другую она сидела неподвижно, хотя непрерывно перебирала пальцами складки юбки. Потом отвела правую руку и стала щупать покрывало и повернулась в мою сторону. Мною овладела паника, пусть даже я понимал, что остаюсь для нее невидимым. В следующую минуту ее безобразная рука, со вздутыми венами под сухой морщинистой кожей, потянулась ко мне. Мне стало не по себе от этого выпада. Не дыша, не двигаясь, боясь обнаружить себя, я вдруг почувствовал, что падаю в бездну. Все предметы стали расплываться, терять форму и пришли в движение, они, то приближались, то удалялись от меня. Это было помрачение разума. Из темноты, в которую я погрузился, до меня донеслись протяжные, надрывные звуки, повторяясь, они сложились в женское имя – Сибилла. Имя это четырежды повторилось. В моих глазах все еще плыл туман, а когда он рассеялся, и предметы в спальне вновь обрели знакомые очертания, я увидел совсем близко от себя женский профиль. Выражение лица указывало на застывшую в предсмертной муке душу; пряди седых волос, выбились из под чепца, и тускло блестели, а чувство ее парализовавшее, озвучивали горестные вздохи. Тишина, в которую падали один за другим стенания была зловещей и напряженной. Насколько мнимым казалось мне ее присутствие, настолько подлинным был трепет моей души, и насколько подлинным было ее страдание, настолько мнимым был страх, который приготовила мне она своим появлением. Не знаю, как мог я оправиться и проникнуться жалостью к сердцу сокрушенному. Нескладное бормотание кончилось самозабвенной декламацией поразительного стихотворения, определенно ее собственного. Но предоставим говорить ей самой.
Густою сумрачною тенью покой могилы осенен
И он тому желанен, сладок, кто на смерть обречен.
Я давно одиноко брожу в темном немом краю
Наказана жизнью, забыта смертью – тщетно ее зову.
Я безучастна, моя душа не веселится
Успела грусть рекой разлиться.
Померк навеки божий свет
Моим печалям счету нет.
Цветы для глаз других благоухают
И облака, теснятся, тают
Над лицом заплаканным моим.
Никогда уже не ослепит меня солнечный свет
Мне ни живой, ни мертвой до этого дела нет.
Тьма ужасна, она пьет мои слезы, быть может
Я расскажу, что печали мои множит.
Однажды с любовью в этот мир я пришла. Теперь, расставаясь
Я оставляю все, чем владела и что здесь нашла.
Едва ли устлан рубинами и сапфирами жизненный путь
Но медлить не стану, устала безмерно – хочу отдохнуть!
Вот только не знаю, вспомню ли я на той стороне неземной
Ароматы сирени и трав, цветущих в поле весной.
Если нет, дайте знать, что нет дороги обратно.
Но верить хочу, душа возвращалась сюда многократно.
Гроздь винограда в руке – благодать!
Пока отрадой мне мои воспоминанья.
Любовью и тоской насыщены стенанья.
Кто юн, тот смотрит на рассвет и в путь стремится.
Тому, кто стар, удел один – собою тяготиться.
Молодость прельщает, она чистейшим золотом сияет.
И каждому мила. Но дни бегут, жизнь пролетает
В суете, в напрасных обольщеньях, в злобе вечной
Нам жизнь уже не кажется беспечной
Когда она – источник всяческих невзгод
Что чередой идут из года в год.
Расплату время нам готовит!
Былые вспоминаю дни, ни с чем их не сравнить!
Мы счастьем совместно владели, любовь могли делить.
Но у счастья короткий срок – увял, потускнел вчера благоухавший цветок.
Суров закон, пред ним дрожим – теряя, то, чем дорожим.
Все преходяще, что оценил бы человек и что бесценно.
Ведь все однажды обратится в прах, все будет тленно.
Но разве только все земное быстротечно?
Звезды и те, не сияют вечно.
Каждая из них волшебно мерцает там и тут
Но настанет срок и камнем с неба они упадут.
Что мне радуга! Что мне новое платье! Что мне утро в саду!
Если мир мой убог, нелюдим и в темноте сплошной я одна бреду.
Моя беда так тяжела, что никто поднять не сможет.
Мой дух исполнен мук, и радость больше не тревожит.
Ничто не возвратит утрату, свой путь прошла и вот я кланяюсь закату.
Если мила мне доля иная, не нужно жизни такой!
Увы, никогда зима не станет в усталой душе весной!
Печаль соткала ковер в красном и голубом.
Образ милый, помню все твои приметы.
Без тебя изнемогла, скорблю, не зная где ты.
Был в шелковых кудрях твоих блеск золотой
Розы в саду соблазнялись твоей красотой.
Вижу: на белых щеках твоих румянец розовеет
Слышу: дыханье ветром нежно веет.
Знаю: как взмах крыла все движенья твои легки.
Помню: слезы твои, как родник чисты.
Мне снится твой невинный облик
Его забыть я не могу с тех пор
Когда впервые ты издала громкий крик
Взорвался счастьем тот дивный миг
Но я недолго ликовала, плененная тобой
Как жестоко я была обманута судьбой!
Страшась могилы влажной, кляня враждебную судьбу
К ней обращала ты мольбу!
И крик твой не был сладкозвучен и отраден
Твой дух на гибель обреченный, был до жизни жаден!
В тоске предсмертной твой образ так целебен
А мир нас разлучивший, так мрачен, пуст и беден!
Лес птице знаком, радостно щебечет она в гнезде
Земля – пустыня, могила моя везде.
Вот вижу бездну – она пугающе темна.
Но чужд мне страх, смерть мне не страшна!
С небес высоких струится дивный свет
Пою Спасителю хвалу, а Бог мне шлет ответ:
Нет покоя там, где ты ищешь его.
Зря ты прилепилась к мнимой истине, зря что-то ждешь
И воображаешь, будто бы живешь.
Здесь я изложил слово в слово все ее стихотворение. Поймите это, кто может. Такое мастерство поэтического изложения грусти и способность к версификации в необразованной женщине, которая даже не имеет понятия о просодии, кажутся особенно изумительными. После того, как старуха прочла его с большим чувством, выразительно вымеряя долгий слог кратким и перемежая слова молчанием, которое тоже имело длительность, она несколько минут сидела, покачиваясь и шевеля губами. Потом пробормотала: « разойдутся тени и будет свет в Господе», с трудом поднялась и побрела к двери, оставив меня подавленного и изумленного. Но если я не мог видеть ее без самого крайнего отвращения, которое она пробудила во мне картиной предсмертной агонии, отягченной дряхлой немощью и слепотой, то после ее ухода интерес к стихотворению еще больше увеличился, я почувствовал себя заинтересованным в ее деле, а ужасное положение этой бедной женщины возбудило мое сострадание. Ясно одно - причина ее появления не была важной, она пришла, чтобы прикоснуться к своему прошлому, а спальня, которую мне отвели, может быть, была его частью. Проанализировав кое-что из ее стихотворения, большая часть которого выпала из памяти, я решил завтра узнать что-нибудь о ней. Кто она? Кто Сибилла, чей образ она лелеет? Утром от Чарльза получу это разъяснение, которое укажет, в каком направлении я могу напрягать свою мысль. Ясно то, что этой ночью, я встретил душу, которая, говоря о боли, знает, что она говорит. В таких мыслях я провел половину бессонной ночи. Больше всего, однако, стало тяготить меня одиночество. А между тем возникла мысль отправиться к Дину. Пусть он спит, я растолкаю его и лягу к нему в постель. Что я и сделал.
Глава 4
Наступило утро четвертого дня. Дин лежал рядом, уткнувшись кудрявой головой в мое плечо, а вытянутая рука покоилась на груди, опять-таки моей. Я лег на бок и, погладив его волосы, слегка потрепал за ухо, призывая проснуться. Мы спали под одним одеялом, должно быть, ворочаясь, я собрал его под себя, обнаружив это, я приподнялся на локте, чтобы вытащить из-под себя большую часть одеяла, но поворачиваясь, потянул его на себя и обнажил Дина. Было неожиданностью увидеть, что он спал голым. Не стану скрывать, что я с любопытством разглядывал его тонкое и изящное тело и скажу больше – меня охватило приятное волнение, следствием которого был прилив трогательной нежности. Я не мог удержаться и поцеловал Дина с такой нежностью, какая редко у меня бывала в губы, для которых они и были назначены. Я так же не стану отрицать, что мне было приятно и, разумеется, не в свое оправдание, хочу донести до сведения тех, кто содрогнется от отвращения, что мне выпало счастье испытать чувство которое я нахожу в высшей степени естественным и возвышенным, потому что в ту минуту понял, что нежно люблю этого мальчика. Кое-кто, без сомнения, сделает отсюда вывод, что я извращенец. Пусть! Я не боюсь людского суда, ибо ни у кого нет права быть моим судьей! Вот так! Нельзя сразу увидеть благородство и нежную привязанность в этом случае, но именно сила чувства обнаруживает тесную связь между ними в том факте, что любовь мужчины к мальчику может быть пронизана божественным светом и как таковая является примером аналогичности естественного влечения с крайностью и если не может служить доказательством допустимости, то, по крайней мере, убеждает меня в том, что первое не исключает присутствие второго в привязанности такого рода.
Я встал, отдернул занавеску и поглядел в окно, выходившее во внутренний двор, в эти утренние минуты безлюдный, он был погружен в сплошную тень. Я не видел, но знал, что слева была бывшая конюшня, приспособленная под гараж. Несмотря на полумрак, воздух пронизывали солнечные лучи, я видел их блики на черепичной крыше галерее, она была ниже, чем восточная и южная стороны замка и примыкала к башне, внутри которой я уже успел побывать вместе с Дином. Обернувшись, я увидел, что он сидит на кровати, свесив ноги и, ничуть не стыдясь своей наготы, улыбается.
- Пойду к себе и оденусь, - сказал я и вышел. В силу сложившихся обстоятельств я не хотел, чтобы кто-то видел меня в спальне Дина, поэтому вернувшись в свою комнату, испытал большое облегчение от того, что никого не встретил на пути. Спустя каких-нибудь десять минут я сошел вниз. Направляясь в столовую, я увидел Огастина, кивнул ему и стал ждать, когда он подойдет. Мы обменялись приветствием и вместе вошли в столовую. Неподражаемая Эбигейл, как и полагается, восседала в центе стола: по обе руки от нее располагались кухарка и прачка, за длинной частью стола сидели Ада и Джейн, и к ним присоединился Огастин. Я устроился на противоположной стороне рядом с Дином. Из наших рядов исчез доблестный дворецкий. Ничто как будто не мешало предположить, что он уже позавтракал на кухне, среди милых его сердцу кастрюль и сковородок. Этой привилегией он пользовался только в том случае, если вставал рано, чтобы быть нужным герцогу, который часто уезжал в Лондон в восемь часов утра. Опять-таки встретившись взглядом с Эбигейл, я улыбнулся. Не стоит и говорить, что все мои улыбки были безответными. Как обычно поглощению еды сопутствовала застольная болтовня о том, о сем. Дин в этих разговорах не участвовал, но всегда внимательно слушал, кто и что говорит. У него был завидный аппетит, и он проглатывал все, что ему доставалось с тарелки. Когда принесли кофе, я заметил, что еда на тарелки Джейн оставалась почти не тронутой. Сама же она выглядела чем-то опечаленной. После завтрака я обратился за разъяснением к Огастину.
-Почему, спрашиваете? А потому, что Джейн сломала швейную машинку, когда шила юбку для собственного употребления. Вы не слышали, какой Эбигейл подняла шум с утра? Вопила так, словно ее на куски резали.
-Машинку можно отремонтировать? – спросил я.
-Вряд ли, по той простой причине, что она старая. Подумайте, как мало она стоит. Но все это еще бы ничего, если бы Эби не пригрозила ей увольнением. Вы знаете ее характер, она шутить не будет. Джейн, когда просила только о снисхождении, была готова рвать не себе волосы от отчаяния. После разговора с Эби слезы потоком лились из глаз Джейн, она шла, не глядя и почти не соображая, куда она идет. Неужели уволит? Едва ли это наказание равняется ее проступку! Противно за Гризеллу и Марту, они взяли единодушно сторону Эбигейл.
-Почему Эбигейл не хочет простить ей?
-Да потому что таит на нее злобу.
Не стану заполнять страницу подробным изложением этого малозначительного разговора, дабы избежать многословия, но продолжу свое повествование описанием затем последовавших событий. Непосредственно после завтрака я попросил Дина узнать, где собственно герцог и в ту же минуту получил сведение от него, что Его Сиятельство отбыл в Лондон. Вчера он был там тоже и его отсутствие меня несколько беспокоило. Для гостя, оказавшегося в чужом доме, одной показной любезности слуг было мало, я нуждался в расположении хозяина дома, к которому воспылал всей душой. Я помнил, что один из пунктов правил - напомню, что Эбигейл постаралась внушить, что мне следует смотреть на них как на судебное установление, - мне не разрешал находиться в главной части замка, особенно в южном крыле, но с одной только оговоркой – по собственному желанию. Между тем Дин и Огастин в сопровождении Гризеллы спустились в подвал. Я остался один и непродолжительное время расхаживал по парадной по временам поглядывая на запретную дверь. Что там? И знал ли Чарльз, что моя физическая свобода была ограничена правилами, среди прочего запрещавшими мне находиться в самой красивой части замка. Почему? Я только что принял удобную позу, облокотившись о перила, и успел даже призадуматься, как вдруг снизу послышался топот и гневные крики Эбигейл. Я как раз стоял возле двери в подвал и повернувшись увидел, что взволнованный Дин торопливо поднимался по лестнице преследуемый экономкой. Выбравшись наверх, он сразу же спрятался за моей спиной, рассчитывая на мою защиту. Ничего не понимая, я посмотрел на искаженное злобой лицо Эбигейл, которая так же неожиданно возникла передо мной: напрасно бедный Дин пытался спрятаться, не сходя с места, она ухватила его за руку, вытащила из-за моей спины, разразилась проклятием и принялась отвешивать Дину подзатыльники.
-Дьявольское отродье даже не старайся делать вид, что не виновен! - кричала она, обрушив на голову Дина тяжелый удар.
-Что такое! – воскликнул я, собираясь встать между ней и Дином.
-Не вмешивайтесь, - прорычала Эбигейл и, вцепившись в кудри Дина, стала его трясти. – Вздумал надо мной издеваться, мерзавец эдакий!
-Я ничего не делал! – завопил он, призывая меня на помощь умоляющим взглядом перед тем, как Эби потянула его за волосы и согнула к своим ногам.
-В чем дело?- спросил я как можно спокойнее.
-Какое у вас возражение против меня?
-Отпустите мальчика, немедленно, - уже сердито говорю я, чувствуя, что вправе ее остановить.- И объясните в чем дело.
- Вас оно касается меньше всего и в последнюю очередь, - злобно бросила Эбигейл и, тряхнув последний раз Дина, оттолкнула его от себя с такой силой, что он упал на пол.
-Утром, вы обидели Джейн, а сейчас напали на Дина, - сказал я, проникнувшись глубокой неприязнью к Эбигейл.
-Научитесь ли вы когда-нибудь следовать приличиям в чужом доме? Предупреждаю вас, не лезьте в мои дела, - возвысив голос, заявила Эбигейл.
-Меня крайне поражает, что вы общие дела считаете своими, - ответил я, потеряв всякое терпение. - Это ваше варварское высокомерие! Набили себе голову всякой чушью и ведете себя, как королева, но никакая сила не расположит людей к вам.
-Если на то пошло, так и я не могу больше сносить вашу наглость. И больше того, в сердце моем накипело немало гнева против вас, – в сильнейшем возбуждении отвечала Эбигейл. – Вы глубоко заблуждаетесь, думая, будто заставили меня поверить в свою исключительность и добропорядочность. Я вижу вас от и до и не стану скрывать, что ваше присутствие противно моим интересам. С этой минуты я лишаю вас своих милостей.
-Не стану и я делать вид, что вы мне скорее нравитесь, чем не нравитесь.
Ошеломленная моими вызывающими словами Эбигейл опустила глаза и удалилась с невменяемым видом. Как отвратительно все-таки подчиняться воле ущербной женщины и сносить ее притеснения и унижения будучи умственно и физически выше ее! Однако я устыдился своей слабости – мне не хватило решимости вырвать мальчика из рук осатаневшей женщины и, посмотрев на Дина, который сидел на полу, поднял его и с большой нежностью прижал к себе. Отныне для него всегда открыты мои объятия. Тут избыток чувств всколыхнул меня и нашел выход в словах: « Вот сука»!
Спросить, что случилось, - было второй моей заботой. Но прежде, чем спросить Дина об этом, я еще сильнее прижал к себе его трепещущее тело, потом взял лицо Дина в руки и поцеловал в щеку, не имея обыкновение целовать мальчиков.
-Я завязал узлами ее чулки, - произнес он, всхлипывая.
-Какие чулки?
-Те, что она сушит на веревке во дворе.
-И для чего?
-Я отомстил за Джейн.
Я кивнул и подумал, что начиная с этого дня, Эбигейл переменит свое обращение и со мной прекратит всякие сношения. Так случилось, что пари проиграно, как раз тогда, когда началось заметное движение в мою пользу. Да, я смог выжать из нее улыбку и это единственное, чего я смог добиться. Я избавил себя от напрасного труда покорить бездушную женщину, чтобы получить в награду за это двадцать бутылок вина, да я этого и не хочу. А, плевать! Впрочем, я солгу, сказав, что ни положение, в котором я очутился, ни исход этой ссоры, заслонившей собой все другие события, не беспокоили меня. Теперь позвольте мне сделать одно замечание, касательно вышеописанного натиска ярости, кажущегося противоестественным и совершенно несвойственным для флегматичной Эбигейл. Стараясь достоверно изобразить ее характер, я с полным тому основанием отнес ее к властному женскому типу (по знаку она была Дева), который мнится мне, сочетает в себе замкнутость, блестящий ум, последовательность в действиях и аскетизм, усугубленный религиозным фанатизмом, исключающим всякую волю себялюбия и тщеславия. Между тем это положительный тип, очень к тому же нравственно определенный и с виду кажется спокойным и рассудительным. Что же касается подавления половых желаний, которое имеет своим следствием вспыльчивость и агрессивность в форме необузданного проявления страсти или злобы, - нападение на Дина тому доказательство, из чего ясно следует, до какой степени они могут овладеть расстроенным воображением бесчувственной, грубой натуры, то Эбигейл выбрала самую удобную для себя форму однопредметного помешательства – манию преследования. Отсюда ее склонность преувеличивать значение самых мелких подробностей, быстрая ассоциация идей, вялая и бесцветная внешность, богатство фантазии и умение излагать свои мысли, молчаливость погруженная в меланхолию, а так же склонность к чтению утомительных, иссушающих мозг религиозных текстов. Нападение на Дина рассеяло мое мнение относительно того, что Эбигейл не является противоречивой фигурой. Как бы то ни было подлинная сущность всякого человека не подлежит исчерпывающему объяснению, ибо пытаясь охарактеризовать кого либо, мы исходим лишь из того, что видим и знаем. В случае с Эбигейл я нахожу свидетельство тому, что в этом подлунном мире добро едва ли существует в противоположность злу. А что меня удивило во всем этом, так это сочетание смирения и неистовой злобы в одной протестантской душе. А впрочем, важно не то, что дает человеку религия, а то, что несчастная и неудовлетворенная душа не может успокоиться в вере. Полагаю Эбигейл не стояла перед выбором, – какой образ жизни избрать и чем заняться. Об этом она почти не думала. На жизненном пути одинокой и обездоленной девушки открывались самые безрадостные перспективы. Я уже сказал, что она страдала меланхолией. Допустимо ли считать себя осужденным на земные муки за чужие грехи? Самая мысль об этом, противна мне. Но Эбигейл верила, что грехи отца навлекли на нее проклятье, а потому она не может обратиться к Богу за утешением или помощью. Дело в том, что ее отец эпилептик убил в припадке бешенства свою жену. Эбигейл осиротела в 11 лет, тетка со стороны матери отказалась взять ее в свою семью и она провела четыре года в работном доме. Хотя Эбигейл не отличалась странностями, ее наниматели видели в безучастности молчаливой девушки, жаждавшей уединения, как раз ту странность поведения, которая указывает на тихое помешательство. Ее часто увольняли по разным причинам. До появления в Дорвард-парке она работала у жены Директора Аптекарского сада в Лондоне. Эта капризная, скупая маленькая женщина была настолько наивна, что даже глупость принимала за правду. Страстью для нее было сплетничать и давать советы. Как ни плохо было ее мнение о людях, она охотно принимала у себя гостей, предпочитала женское общество мужскому и часто позволяла себе вольности, за которые осуждала других. Миссис Арабелла Донн, так звали ту почтенную женщину, была недовольна независимостью Эбигейл, ее непоколебимая уверенность в своей правоте и сдержанность, граничившая с высокомерием, бесили добродетельную женщину. Эбигейл жила на чердаке в маленькой комнате со скошенным потолком, которую делила с молодой служанкой. Та, в свою очередь, была тоже мало расположена к молчаливой и серьезной девушке; как-то наливая чай Арабелле Донн, она сообщила, что Эбигейл имеет обыкновение сидеть в темной комнате и вообще, ей кажется, что она одержима бесом. Мало того, Эбигейл кладет в постель ячменные зерна. В этот же вечер Эбигейл была уволена за то, что отказалась дать вразумительное объяснение всему этому. Единственное, что Эбигейл сказала о себе в свое оправдание: « Не обращайте на это внимание». Арабаелла объявила, что Эбигейл дурная девушка, как водится, лишена всякой благовоспитанности и громко выразила свое неудовольствие.
Ближе к обеду из Лондона вернулся Чарльз и послал за мной. Я гулял во внутреннем дворе, когда меня позвали. Воодушевленный новой встречей я свернул за угол и там мы вышли один другому навстречу. Он предложил прогуляться, мы вернулись назад, миновали двор и через ворота, представлявшие собой низкие двери в углублении стены, вышли в парк. По дороге я завел с ним разговор о старой женщине испугавшей меня своим появлением прошлой ночью.
-Это можно легко объяснить. В твоей спальне когда-то жила ее дочь Сибилла. Она умерла в возрасте восемнадцати лет от лейкемии.
-Но кто эта женщина? Расскажи мне все.
-Бывшая служанка. В завещании мой отец назначил ей пожизненное содержание, а мать дала ей кров и пропитание. С ней нет никаких хлопот. А что стихи? Бред какой-то?
-Что ты! Поразительные стихи. Выходит, эта несчастная женщина намного лет пережила свою дочь. Она вздыхала и горько жаловалась. Это стихотворение служит выражением ужасных душевных страданий. « Я давно одиноко брожу в темном немом краю. Наказана жизнью, забыта смертью, тщетно ее зову». Как тебе? Попробуй высказать что-либо подобное.
-Возможно ли? – удивился Чарльз. – Странно мне слышать это. Я думал, что слепой образ жизни и глухота обезличили ее, что она страдает полным расстройством умственных способностей. Давай навестим ее вечером. Что у тебя с Эбигейл? Пленил ее своим очарованием.
-Еще нет. Но ты видел, она улыбалась.
-Заставить ее улыбнуться – уже достижение. Скажи, какой волшебной силой?
- Не знаю, как это получилось. Знаешь, тут процветает фаворитизм, я заметил, что она благоволит к прачке и кухарке, но я не вижу даже малейшей вероятности попасть в ее свиту. Она, можно сказать, стерва. Тут ей нет равных.
Чарльз пристально посмотрел мне в глаза, улыбнулся и сказал:
-Я ждал от тебя лучшего о ней мнения.
- Чему тут удивляться? Нет, больше не могу ее терпеть. Она притесняет меня, обращается со мной без всяких церемоний. Пусть другие пресмыкаются перед ней, я не буду.
-Хочешь получить награду – стелись ковром. Когда ты узнаешь ее получше, она обязательно заставит тебя проникнуться уважением. Вот уведешь, так и будет. Я не считаю ее верхом всяческой добродетели, нелепость в ней сочетается с высокой нравственностью и если мерить ее поступки, исходя из понятий чести и достоинства, то невольно напрашивается мысль, что ее убеждения действительно таковы. Холодная и рассудительная. В этой гармонии ее сила. У тебя есть возражение относительно определения ее в этих терминах.
-Я умышленно избегаю выводить заключение на основании положительной характеристики и не стал бы употреблять слово «гармония» в отношении нее. Она высохшая мумия. Вот вся правда. И какими жалкими и уродливыми кажутся мне все ее добродетели.
-Как же ты дошел до такого упорства в неприятии?
-Я высказался о ней неуважительно, но иначе не могу. Знаешь, встречи с ней почти никогда не обходятся без споров. Черт с ней. У меня нет ни малейшего желания добиваться ее благосклонности. Сохрани боже меня от этого!
- Да ведь и ты сам допускаешь, что она честная, принципиальная женщина. Я бы сказал неподражаемая. Она сменила свою предшественницу без чего-то уже двадцать лет назад. И вот что удивительно, за это время она совсем не изменилась, не постарела и теперь выглядит так же, как и тогда. Эта сильная духом женщина, не боится ответственности и осуждения, рьяная протестантка, но она не будет презирать человека, чья вера отличается от нее собственной. Однако ее терпимость относительна, Эби не прощает людям их грехи и слабости. День за днем, на протяжении многих лет она делает то, что она делает, при этом она вряд ли считает, что осуждена на такую однообразную жизнь.
-А родственники у нее есть?
-Был двоюродный брат. Жив он или нет, не знаю. Сама Эбигейл тупеет с возрастом, становится невыносимой занудой. Смею уверить тебя, она начинает уже меня раздражать. Очень может статься, что я отправлю ее к своей жене. Они родственные души.
-Мне показалось, что прислуга недовольна ее управлением.
-Еще бы. Вообще говоря, ее управление осуществляется в форме, скажем, большевистского диктата, подразумевающего подавление и ограничения. Действие их сходно: они укрепляют порядок
-Неужели ее удовлетворяет собственная жизнь, такая скучная и беспросветная?
-Она вполне может сделать свою жизнь приятной и удобной. Но даже не пытается. Она презирает деньги, но я не помню, чтобы она хоть раз отказалась от зарплаты.
-Давай положим конец разговорам о ней.
-В самом деле, мы много о ней говорим, - согласился Чарльз, взял меня за локоть и сказал с более приветливым видом – Мне нравится слушать тебя.
-Почему?
-В твоих словах есть искренность и непосредственность, столь любезные богам. Поговорим о чем-нибудь другом. Например, о политике. Ты считаешь Сталина злодеем?
- Он монстр. Ленин и Гитлер тоже.
-Меня удивляет, что в стране, где власть поощряет насилие и карает свободомыслие, так много распространяются о демократии. Ненавижу коммунистов и их лживые окровавленные революционные идеи.
- Всякая революция – это взрыв нетерпимости черни . Одной только зависти довольно, чтобы взяться за оружие…
-Я тут подумал вот о чем, - перебил меня Чарльз. – Герцогиня Монмутская покровительствует одному русскому писателю, он живет в ее доме на Гровенор-сквер. Его охотно принимают в лучших домах, на его лекции набиваются целые залы, он сейчас самая популярная фигура в Лондоне, люди всех сословий испытывают к нему интерес, особенно принимая во внимание то, что он сбежал из России. И сейчас он занят исключительно тем, что ниспровергает советскую демократию. Я приглашу его к себе. Кстати, ты уже подумал над моим предложением описать библиотеку?
-Сначала, я хотел бы взглянуть на нее. Я могу?
-Почему нет?
-В правилах запрещается заходить в библиотеку.
-Что?! Она заставила тебя им подчиниться? Быть того не может! Ты не просто какой-то гость, ты мой друг. Проклятье, да и только. Прости, я не знал. Вернемся, я с ней разберусь.
-Не надо. Ничего ей не говори. Она еще больше разозлиться на меня.
-Положим, я промолчу. Тогда ты будешь не свободен в моем доме.
-Это меньшее зло, - заверил я герцога.
-Хорошо, чтобы не помешать тебе я пока сделаю вид, что ничего не знаю. Мы заключили пари на две недели. Четыре дня уже прошло. Мне все-таки не нравится, что твое дальнейшее пребывание в замке будет ограничено запретами.
-Цель важнее условий.
-Тебе решать. Но я возмущен. Ну, Эбигейл, берегись. Я еще больше укрепился в своем мнении, что ее тупость перевешивает хорошие качества. Я сразу дал ей понять, чтобы она оказывала тебе явное предпочтение перед всеми моими гостями.
Такое возмущение не могло не тронуть меня. С чувством морального удовлетворения я посмотрел вперед и сказал, ободренный тем, что унижающие меня условия почти отпали. - Странно, но мне нравится зависеть от благосклонности напыщенной Эбигейл, от ее настроения, милостей. Если бы не ее деспотизм я не имел бы возможности защищаться, противоречить ей.… Это какая-то психодрама. Мне хочется при всяком удобном случае ругать ее самыми последними словами и сегодня я едва удержался от этого. Она сильный противник, я хочу ее сломить. Хочу видеть ее поверженной. Пусть она пострадает за свое высокомерие.
- Я ради нее и пальцем не пошевелю, - все больше воспламеняясь, воскликнул Чарльз. – Тебе, конечно, следует обуздать ее. Хорошая встряска нужна всем для освежения ума. Знаешь, за все двадцать лет она ни разу не попала в трудное положение, ни разу не навлекла на себя мое недовольство. Она строптивая стерва, но как ни осуждай ее за это, все же она заслуживает уважения.
За разговором вы вышли из парка, взяли влево и пошли по ровной дороге. По одной стороне деревья росли с большими промежутками, все были старые: кроны их были густые, широкие, а ветви длинные и красиво изогнутые. Солнце к этому времени стало опускаться и тени от них лежали на поле, усеянном увядающим клевером. Между дубами открывался вид на окрестности. Я смотрел на оскудевший ковер из полевых цветов и с грустью думал, что скоро наступит конец лету. Во влажном воздухе витал запах осени. Здесь и там вяли цветы, сохли листья, а кусты, росшие по краям дороги, больше не радовали взгляд своей сочной зеленью. Едва ли осень допускала свою вину за то, что исчезали цветы, теряли силу травы, с деревьев облетали листья – она несла свои краски и свое величие. Если тут вообще есть вина! Приход осени неотвратим. Не могу сказать, когда в уме моем начало складываться то понятие об этом сезоне, какое, вероятно, составилось о нем у других людей. Действительно, у меня есть полное основание думать, что в красках осени есть грустная торжественность умирающей природы.
Сконвертировано и опубликовано на http://SamoLit.com/