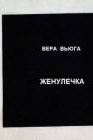Женулечка.
Хотелось дать в морду, но рядом никого не было. Тогда он пнул под брюхо собаку, та взвизгнула, и по-рабски поджав огрызок хвоста, молча, отползла в поддиванный бункер. Господин-хозяин упал на подушки, будто умер.
Уже двадцать шесть минут как от него ушла жена, вернее выбежала на мороз в одном халате.
Он медленно приподнял голову. Дым в глазах не рассеивался, а стал, вроде гуще и приобрел желтоватый оттенок. Пыльный кордон штор преграждал путь свету. Головой насаженной на шест, на стене застыла тень ночника. Вкруг него, будто посыпанный серой пудрой, летал разбуженный мотылек-стервятник.
"Убить", – подумал Маруськин.
Было душно. Радиатор работал на полную. Детские колготки, подсыхающие на вертикальной поверхности, распространяли по комнате ядреный аммиачный дух. На кухне из последних сил захлебывался кипятком цветастый чайник.
Еще сегодня утром Маруськин был счастлив. Сидя за чашкой индийского, нахваливал пирожки с потрохами и целовал созвездие родинок под шелковыми завитками на шее любимой женулечки...
Он резко встал, комната пошла плясать. Перед глазами поплыли перламутровые чашки сервиза "мадонна", хрустальные рюмочки, фужеры, бутылки. Чеканный конь на стене рванул галопом по выцветшим кленовым листьям дешевеньких обоев. Маруськин держался за спинку стула и ноги его, казалось, проваливались сквозь пол...
На кухне было влажно, как в тропиках. За запотевшим окном прополз хлебный фургон. "Надо бы занять очередь..." – по привычке подумал он.
Нет. Теперь ничего не надо...
На столе лежали мятые клетчатые листочки, вырванные из тетради:
"...сказал сегодня у него еще не было такой блядской дамочки, и что на вкус я напоминаю киви... я смеялась и спрашивала, что такое киви... крокодила сушеного подарить хотел... и куда я с крокодилом, лучше дубленочку..."
Маруськин достал из кармана спички и подпалил край листка. Бумага моментально вспыхнула, клеенка под ней расплавилась. Резкий химический запах, пополз с кухни под дверь прихожей. Трель звонка вывела из оцепенения.
– Маруськин! Ёж пархатый! – орал прапорщик Карданов, настырно колотя в двери. Ты чё там? Опять пироги пригорели? На развод не опоздай!
Деревянная лестница ещё несколько секунд скрипела под сапожищами, а потом дверь отозвалась глухим хлопком. И все стихло.
Маруськин схватил стоящий на плите чайник и вылил на стол остатки кипящей жидкости.
Семь лет ничего не замечать...
Они дружили семьями. Были соседями и собутыльниками. Младшего Ваньку вынянчили вчетвером. Ваньку...
Перебирая в коробке фотоснимки, он искал тот, где Бирк был снят с Ванькой, с его Ванькой...
Сын прижимал кудрявую головку к плечу Бирка, Бирк держал его на руках. Маруськин вглядывался в лица, пытаясь отыскать хоть малейшее сходство. Как он не старался – ему не удавалось. Скуластый, с чуть раскосыми черносмородинновыми глазенками Ванька, скорее походил на тылового старшину Нахапетова, чем на штабного аристократа Бирка.
Сидя на полу, среди разбросанных фотокарточек, Маруськин думал о том, что жизнь кончена. Судьба прошлась по нему многотонным катком, расплющив в одночасье, оставив только глянцевые кусочки былого счастья. С одного из них прямо в глаза Маруськину ласково улыбалась она.
Ночь с восемьдесят пятого на восемьдесят шестой хрустела снежком, светила звездами и ничем особенным не выделялась среди других зимних ночей. Разве, что её объявили первой и украсили мишурой. Мишурой надежд и желаний.
Разгоряченный после выпитого и танцев, Маруськин вышел перекурить на крыльцо клуба. Сквозь моросящую снежную крупку, он увидал маленькую фигурку, приближающуюся со стороны офицерского дома. Ванька! На Ваньке были только колготки и майка. Маруськин подхватил сына, сдернул с вешалки куртку и, укутав в нее дрожащее тельце, побежал к дому.
В висках отзывались куранты, а потом за стеной громыхнул гимн Советского Союза. Тихий Ванька лежал на диване, Маруськин пытался стащить с него прилипшие колготки. "Не боись, Ванька, прорвемся. Ты ж герой, а герои не плачут!" – успокаивал себя Маруськин. "Пап, пить..." Ванькины холодные ручонки сжимали чашку с Коньком-Горбунком, он медленно пил разогретый клюквенный морс, а Маруськин растирал его побелевшие ступни водкой. Потом, стал согревать каждую в огромных пылающих ладонях. "Сикотно" – захохотал Ванька и сбросил с себя верблюжье одеяло. "Нет, так не пойдет. Давай-ка спатки". Он перенес сына в спальню, выключил свет и сел на стул рядом с кроваткой.
– Пап, ты не удёс?
– Нет, Ванька, спи", – соврал Маруськин. Но Ванька для верности зажал в потеплевшем кулачке прокуренный, заскорузлый отцовский палец. И сразу засопел, доверчиво и уютно.
В незашторенное окно на Марускина глядела незнакомая звезда. То, впадая в дрему, то оживая, она чуть раскачивалась над темным куполом полуразрушенной церкви, холодным сиянием венчая храм у бетонной дороги. Зимою снег выбеливал его своды, промораживал кирпичную кладку до блесток. Заиндевевшие стены вспыхивали на солнце, точно отражая мириады зажженных свечей. А летом в его ароматных приделах разгорался шиповник, и в бездыханном полдне гудели пчелиные колокола. С утра, и особенно к ночи, херувимские песни разливались над алтарем, где из лета в лето прирастали силами тощие березовые деревца. Казалось, сама природа справляет божественную литургию на останках престола некогда благословенного храма.
Вечерами, усадив десятилетнюю дочь Лялю на багажник, Маруськин отправлялся в деревню за живым молоком. Иногда он останавливался, бросал велосипед у дороги и, перебравшись через сухую канаву, поближе к церкви, заваливался в теплую траву послушать соловьев. Маруськин слушал, а Ляля беззвучно ловила кузнечиков, отрывала им крылышки и отпускала.
Ляля была похожа на мать. Те же глаза, те же волосы и тот же черный бугорок родимого пятнышка на мочке уха. Вот только характером не одарила родительница. Смирение и отстраненность одновременно наполняли дочь. Иногда Маруськину казалось, что Ляле не десять, а сто десять лет. Лялю не интересовали шумные игры, она чаще молчала, чем говорила. Иной раз о её присутствии в доме напоминало лишь пальтишко, да обувка – аккуратная пара, среди сброшенной, как попало. Она могла часами смотреть в окно. Из которого были видны: дальний лес, кусок дороги, остов церкви, КПП с металлическими воротами – по облупившейся звезде на каждой створке, да редкие прохожие. Такие редкие, что по часу не увидишь следующего. Увязнув взглядом в унылом окоеме, она забывала о времени, словно молилась, и только строгий окрик матери заставлял её оторваться от подоконника и исполнить все приказания. Она жила в семье точно отбывала епитимью наложенную неведомо кем и за что. Приступы молчаливого созерцание не столько настораживали, сколько раздражали Веру, она возила девочку к врачам, но те ничего страшного не находили.
"Я устала от её молчания. У меня будет нервный стресс, – убеждала она Маруськина в семейной постели, нежно выводя пальчиком знаки вопроса на заросшей груди мужа. – Она сведет меня с ума..."
Чтобы "отдохнуть" от дочери Вера всякий раз подолгу уговаривала мужа. Маруськин нехотя, но соглашался и отвозил девочку на все каникулы к своим в Саратов. И как-то Ляля совсем не вернулась, осталась у бабушки с дедом. В той же постели, Вере, удалось убедить мужа, что там ей будет лучше.
Уличная дверь взорвалась новогодней хлопушкой, из нее с хохотом высыпалась соседская компания и поплясала к клубу. Маруськин ещё немного посидел, таращась в темноту, медленно высвободил палец, подоткнул одеялко, и вышел.
Вокруг была зима. И ночь, первая ночь новой зимы... Утаптывая прошлогодний снежок, он спешил к своей ненаглядной женулечке. В кармане трепыхался бархатный коробочек с перстеньком внутри. Подарок. Дорогой и желанный. Месяц назад Вера увидала на пальце секретарши строевой части колечко с бирюзовым кабошоном в золотых веточках. Ах, что за чудное было колечко! Вера примеряла его, то на один, то на другой пальчик. То отводила руку, то подносила поближе к глазам... И всё ахала. Ей так захотелось точно такое же, что она сделалась рассеянной и задумчивой. Маруськин даже решил, что Вера заболела. Но когда все открылось, обрадованный Маруськин выманил у секретарши адресок магазина, где было приобретено сокровище.
Эльвира, кокетливая женщина постбальзаковского возраста с напористым бюстом и копною вьющихся ярко рыжих локонов, схваченных на затылке траурным бархатным бантиком, долго не сдавалась. Тактика дальнего боя результатов не дала: дров они заготовили предостаточно, и тушенка им не интересна, у майор Заклёпкина, мужа Эльвиры, изжога от неё поднимается. Маруськин не сдавался. Как заправский соблазнитель он решил применить тактику ближнего боя.
– А с чё это ты, Петр Иваныч, отзывчивый такой? – Эльвира шумно сглотнула из чашки желудевый напиток. Маруськин тоже хлебнул, внутренне содрогнувшись.
– И как ты пьешь эту помою, Эльвира... – Эльвира опустила чашку, оставив на неказистом фаянсе жирный перламутрово-розовый оттиск увядающих губ. – А вот так и пьем. Печенюшки-то бери...
Она пододвинула поближе к Маруськину блюдце с обсыпными квадратиками. Вот оно, колечко на её безымянном пальце, мечта его Веры!
– Какие ж у тебя Эльвира красивые руки... – выдавил из себя Маруськи и мгновенно взмок. Он взял руку удивленной секретарши и влажно чмокнул. Помедлил и для надежности запечатлел еще раз.
– Ты чё? – Эльвира смотрела на свою расцелованную руку, зависшую в воздухе, точно на летающую тарелку и удивлению её не было предела.
– Руки говорю красивые... у тебя. – Маруськин залпом допил напиток.
– А-а-а, – промычала она, – понятно. И отчего-то полезла мокрой ложкой в жестяную банку с желудевым порошком, спутав всю последовательность растворимой церемонии.
– Вот смотрю, и колечко красоты неземной у тебя... Заклёпкин подарил?
– Прям! Насмешил. Заклёпкин... Сама в горунивермаге взяла.
И улыбнувшись ему широко, до золотых коронок, подлила в чашку кипятка, настраиваясь на продолжение беседы. Но Маруськин скоренько распрощался, оставив женщину в недоумении и легком возбуждении. Тут же в соседнем кабинете он отпросился у комбата, наврав про разболевшийся зуб.
Ещё не успели остыть ни кипяток в чашке, ни сладострастный жар эльвировой плоти... А Маруськин уже мчал в райцентр на своей машинёнке, пугая придорожные леса рычанием прогоревшего глушителя. Но в магазине перстенька не оказалось.
Продавщица только что перекусила. Молочные усики на нетронутом косметикой блеклом лице и коротко остриженные с проседью волосы делали ее похожей на стареющего корнета.
"Были, но сплыли", – доверительно огорчила она Маруськина, отщипнула кусочек рогалика и заложила за щёку. Расстроенный Маруськин постоял, поутюжил пальцем витринное стекло, надеясь найти хоть что-то похожее... И уже у выхода услыхав "товарищ капитан", обернулся. Продавщица поманила его пальцем. "Вот". Она открыла коробочку. На черном бархате лежал точь-в-точь ...и кабошон и веточки по краям...
– Такое?
– Оно! – обрадовался Маруськин.
– Правда чуть подороже будет... А размер-то, какой нужен? Это пятнадцать с половиной.
– Нормально. На безымянный.
Маруськин знал все размеры женулечки. Он покупал ей и лифчики и сапоги, и никогда не промахивался.
– Мне пятьдесят, – чревовещала продавщица, выписывая чек и уже громко на весь полупустой магазин: "Сто тридцать в кассу!"
Он вошел в полумрак актового зала, сменившего партийно-выверенный стиль на легкомысленно-новогодний. Народ разбавлял самогон компотом, заедал амаретто" кислой капустой и, чуть отдышавшись, снова пускался в пляс.
Маруськин не сразу разглядел Веру, она была с Бирком, их неспешный танец, затерянный среди других, не был чувственным. Тела держали дистанцию, и лишь руки, с переплетенными пальцами беззастенчиво наслаждались близостью.
Маруськин любовался Верой, тоненькой, но фигуристой. Финская блузка, купленная Маруськиным для жены "из-под прилавка" в сельпо, обтягивала, переливалась и искрила. Вера увидела мужа, улыбнулась и помахала ему рукой. Маруськин подхватил жену прапорщика Карданова и повел её в медленном танце к центру зала, поближе к женулечке. Карданиха , уронив голову на плечо кавалера, захрипела про горную лаванду – желтые цветы. От неё пахло солеными грибами. Ещё пол песни они топтались рядом. А потом Вера оставила Бирка и, разбив пару мужа, зашептала, обвивая его шею руками: "Я ревную". Подсвеченные крашеными гуашью лампами самодельной светомузыки, они медленно поплыли по залу. А полковник Бирк, увлекаемый нетрезвой кардановой женой, завальсировал в другую сторону.
В новый год, каких только чудес не бывает. Вот оно! Не отнимая одной руки от жениной талии, другой Маруськин нащупал в кармане брюк коробочек, открыл его и в кармане же надел подарок на свой мизинец. Правда, дальше первой фаланги перстенек не прошел. Довольный Маруськин, предвкушая восторги и поцелуи, вскинул руку со словами "опа-ля!" и пошевелил окольцованным мизинцем перед носом восхищенной и удивленной Веры. "Петрушечка!" – голос ее взлетел под потолок, точно пробка, выбитая из бутылки шампанского. Конфетти поцелуев, осыпали выбритые и надушенные в честь Нового года щёки Маруськина.
За глаза, сияющие стоваттным счастливым блеском, за белые рученьки, за хрупкие пальчики... За все, чем была для него эта женщина, он отдал бы жизнь, не то, что сто тридцать рублей! Да, ещё пятьдесят сверху. Маруськин ликовал!
Теперь Верин пальчик был ублажен. Колечко в пору: сидело плотно, не вращалось. Вера поцеловала в губы мужа, как во французском кино возбуждающим затяжным поцелуем.
– Дома поблагодаришь... – Маруськин притиснул жену с такой силой, что в Вере что-то хрустнуло.
– Ой, раздавишь, Петечка...
Маруськин любил жену искренне и простодушно. Он любил её больше Родины, партии и хоккея. И это были не просто слова, а поступки. Уже десятый год его погоны мелкой россыпью украшали потертые звездочки. И все из-за того, что партия и Родина, активно посылавшие офицера Маруськина в перспективные дыры, неизменно получали документ – в нем расписывались болезни любимой Веры. Здоровье жены было ему важнее карьеры. На бесперспективном и беспартийном Маруськине Красная Армия поставила должностной крест и забыла. Да, и он был не в обиде. Главное служил недалеко от города, хоть и областного.
Маруськин всегда куда-то спешил. Дела чаще были домашними- огородными: воды ли в бочку натаскать, парник ли открыть, а вечером закрыть обратно, дров ли наколоть. Вера если затеет стирку – титан растопить или ей вздумается по магазинам проехаться – машину к подъезду. Какая там служба. Дети болеют – в город к врачам, снова не до службы. Маруськина вздрючивали начальники, да не по разу, а регулярно. Почти на каждом совещании он получал взыскания от всех командиров, бывших над ним. Что ему командиры. Когда главный командир его жизни любимая женулечка! Маруськин тихо сопел в ответ на "уи" летавшие по кабинету, и на всё про всё у него было только два ответа: "так точно" и "никак нет".
Да, и выглядел Маруськин как-то не по уставу. Галстук носил в кармане. Воротник форменной рубахи сдавливал тюленью шею, оттого верхнюю пуговку он застегивал только в приказном порядке или в кабинете у комбрига. Китель распирало так, что пуговицы, еле сдерживали натиск живота. Еще чуть и, казалось, сорвавшись с ниток, они поубивают рядом стоящих. Голова под фуражкой потела, и он сдвигал фуражку на затылок, открывая ветру крутой и вечно влажный лоб с прилипшими завитками волос. Походка его была тяжела и основательна. Носить жену на руках он обещал еще до свадьбы и слово держал. В женулечке его всего-то пятьдесят килограмм, как в мешке с сахаром. И вся она сахарная. Сколько он мешков-то перетаскал у себя на тыловом складе. Что там сахар... Глазищи у неё, что уголь на кочегарке, а волосы длинные, волнистые, густые черные, точно сажей накрашены и ни одного седого! Маленькая, а родила ему двоих деток и в свои тридцать восемь выглядела лет на двадцать пять. А потому, что любил.
Другие-то бабы, до выпадения маток, ведрами навоз на огурцы таскали, пока их обтрепки водку жрали. Только не Петрушечка. Все сам. А Вера в обеденный перерыв за зеленушкой если сбегает, укропчик там пощипать, редисочки дернуть. У неё же должность – комендантша офицерского общежития!
Веру уважали и за образование и за то, что никогда не ругалась по- матерному. И то, что модная она была тоже заслуга Петечки. Журнал "Бурда" ей из Москвы сержант-срочник пересылал. Вернее его родители, чтоб парню легче служилось. Как только Вера услышала про тот журнал, так и Маруськину покоя не стало, пока не нашел. Любовь она еще и не такие задачи решает.
Музыка закончилась и красномордый завклуба, он же зам. командира по организационно-партийной работе затеял конкурсы. Всем было весело и жарко. Маруськин под руку довел Веру до столика, за которым Бирк и его жена Нелли, крупная женщина без талии, поглощали принесенные из дому новогодние деликатесы. Туфли Нелли, скорее похожие на баржи, чем на лодочки, валялись под столом. Опухшие плоскостопные ноги в розоватом капроне увесистыми коленками подпирали столешницу. С таких женщин кариатид ваять, Вера против неё казалась эльфом. Маруськин отодвинул стул и, усадив женулечку, сел рядом. То, что произошло с Ванькой, он рассказывать не стал. Зачем тревожить женулечку. Портить ей праздник. Небось, обойдется.
– Мимоза в этот раз, Вер, тебе удалась. Ты морковь кладешь? Я-то везде морковь кладу. На вот попробуй оливье. Колбаса молочная. Бирк в Нарве брал. – Нелли заботливо горкой навалила в тарелку мешанину с майонезом и подлила себе в стопку водки. – Ну, что? за Новый Год! За победу над врагами нашими и социализма! Ура!
Все выпили.
Семья Бирков была бездетной. Отчего-то природа сопротивлялась их размножению. И легче было бы пережить свое бездетство, живи они в большом городе, где нет никому ни до кого дела. А тут все на виду и вроде сочувствуют, но как-то неделикатно. В городке всем известно, по какой причине нет детей, где лечилась, чем. "Анамнез в мешке не утаишь", – смеялась Нелли. Она почти смирилась и искала радость в чужих детишках. Воспитатель из неё получился терпеливый и ответственный. И, когда она читала родной белолицей детворе средней группы детсада:
"Мы живём на Занзибаре, Калахари и Сахаре, на горе Фернандо-По, где гуляет Гиппо-по по широкой Лимпопо..." – глаза её заволакивало слезами.
Три года в "земле чёрных людей", где Бирк учили африканских товарищей пить водку и стрелять по воробьям из ЗРК, все эти три года Нелли провела вместе с мужем, пересиживая регулярные локальные конфликты в глухом нужнике и питаясь ненавистными бананами. Там она поняла, что гиппопотамские детей, мающиеся животами – идеальная картина мира. И нет ничего страшнее когда:
"Десять ночей Айболит не ест, не пьёт и не спит, десять ночей подряд..." – и голос её дрожал.
"Нелли Адамовна не плачьте, – утешал её мальчик Вова и гладил по руке. – Он их спасет ..."
Как их спасали, она никогда не забудет... И всякий раз, сморгнув воспоминания, она продолжала с выражением: "Вот и Гиппо, вот и Попо, Гиппо-попо, Гиппо-попо!"
Теми же сказками она питала и маленького Ваньку, которому на все выходные становилась нянькой.
Хоть и жили теперь их семьи в разных гарнизонах, но встречались на все праздники и почти каждые выходные. Бирку был положен по должности персональный УАЗик, и он гонял его во все покрышки не жалея казенной горючки. Ездили они и на пикники, и на взморье, и в дальние эстонские деревушки за сыром и мармеладом.
Начштаба бригады сорокалетний полковник Бирк высокий, рельефный красавец, с въевшимся в кожу импортным загаром заочно учился в столичной академии и имел все шансы стать генералом. Вот только неродившиеся детишки могли подпортить ему карьеру. Нелли продолжала лечиться и два раза в год совершала паломничество по санаторно-курортным местам, оставляя мужа на попечении семьи Маруськиных. На выходные Бирк приезжал с ночевкой и бутылкой белого. Одной поллитры, конечно, не хватало, чтобы нейтрализовать маруськинский центнер. Но Маруськин встречал его тоже не с пустыми руками. Бирк пил ровно столько, чтобы не вступать в разногласия с внутренним и окружающим мирами, Маруськин – сколько вольется. Свою поллитру Маруськин убирал в полчаса, и подшучивая над малопьющим другом, незаметно для себя убулькивал и его порцию. А после недолго пел, нестрашно матерился и засыпал. Сценарий не менялся со дня основания домашнего театра. Потом любовники дружно отставляли в сторону стол с закусками, стаскивали Петечку с дивана на ковер, оставалось только перетащить тушу в спальню. Для атлета Бирка это, как сделать подъем переворотом на перекладине. Гормон в нем играл во всю дурь, а похоть придавала геркулесовы силы. Ещё он легко отжимался из упора лежа тысячу раз, и мудреную камасутру, как матчасть знал "на отлично".
Под утро, оставив Бирка на диване в зале, расслабленная Вера расталкивала похрапывающего на полу мужа, тот, не открывая глаз, переползал в кровать, обнимал женулечку, бурчал что-то нежное, пускал слюни, а на утро ничего не помнил и все были счастливы.
Маруськин вернулся в комнату, окинул её похмельным взором и мгновенно прозрел, без долгих подозрений и терзаний, точно лукавый наложил на него руки. Он рычал и бил огромным кулаком в стену, из ссадин сочилась кровь, а он бил и бил не останавливаясь. Не понимая зачем, зачем он прозрел! На циферблате электронных часов сменилась последняя цифра: "16 - 16". Шатаясь, Маруськин вернулся в кухню, сдернул с крючка полотенце, обмотал окровавленную руку и, вспоминая последний день, осел измученным телом на табурет.
Нелли разбудила Маруськина около двух дня, тот отдыхал перед нарядом. Голос её был сдавлен, Маруськину показалось, связь барахлит.
– Слышу, тебя плохо! – орал в трубку Маруськин. – Перезвони...
Когда телефон засигналил повторно, Маруськин схватил трубку и, не дожидаясь начал:
– Что случилось?
– Бирк, Бирк у вас? – почти кричала Нелли.
– Да, нет. А что случилось, то...
– Письмо... Он и Вера...
– Что Вера? Что Вера? – тупо переспрашивал Маруськин, все еще не опомнившись ото сна.
– Я нашла письмо... Её письмо у него... У Бирка!
– И что?.. – горло словно обложило, и голос подвел Маруськина. – И что? – просипел он.
– Спят они вместе!!!
– Как спят? – искренне не понял Маруськин. Вера всегда рядом. Что за чушь...
– Идиот! Трахает он её!!!
– Как... ?
– С удовольствием!! – и Нелли бросила трубку.
Маруськин не поверил. Жена была на работе. Спросить было не у кого. Маруськин лег, но вместо того, чтобы спать ворочался, диванные бока скрипели, и на сердце было как-то тоскливо. Все же он решил дойти до офицерской общаги и рассказать женулечке о непонятном Неллином звонке. Он оделся, взял вонявшее вчерашней рыбой ведро и вышел.
Все в городке было под рукой и офицерское общежитие через дом, и помойка – напротив, за забором. Маруськин опрокинул ведро в заснеженный прицеп, ополоснул его снегом и взглянул в сторону дороги...
Вальяжного вида птица слетела к ногам Маруськина. Отрывисто и громко каркая, она прохаживалась перед задумчивым человеком, словно тот был не венцом творения, а неказистой тварью с пустой, как ведро головой.
"Ну, что, сволочь, сколько мне жить осталось?" – спросил Марускин птицу. Та, было приоткрыла клюв, но отчего-то стушевалась, растопырила крылья, и молча умахала в сторону, чернеющего вдалеке УАЗика.
По протоптанной в снегу тропинке, Маруськин заспешил к КПП, в руке болталось пустое ведро.
"Чей УАЗик?" – спросил он заходя в помещение пропитанное луково- чесночным смрадом. "Здравия желаю, товарищ капитан! – отрапортовал заспанный солдатик и добавил. – Не могу знать." Маруськин пошелестел старой газетой "На страже Родины", лежащим тут же на столе, и как бы сам себя успокаивая, спросил: "Проверяющие какие?" "Никак нет. Никто не проходил".
Маруськин вышел на мороз, солнце слепило и разглядеть номер машины было невозможно. А может, ему и не хотелось. Маруськин повернул к дому. Цепляя ведром, бетонные тумбы ограждения, он вошел на территорию части с тыльной стороны. Там, где окна общежития упирались в глухие гаражные стены. Одно из них было окном её кабинета. Занавески плотно задернуты. Маруськин постоял немного, боясь и желая уловить хоть какой-то звук или движение. Но так ничего не дождавшись, побрел домой.
Поднявшись на горку, почти у дома, он догнал взглядом энергичного Бирка, спешащего по заснеженной бетонке к УАЗику. В голове у Маруськина загудело и перед глазами заплясали огненные зигзаги. Он влетел в подъезд, распахнул незапертую дверь и, понимая, что Вера дома, заорал, раздувая ноздри:
– Шмара!
Он попытался схватить женулечку, но та увернулась и как была в тапках и халате выскочила на мороз.
– Сука! Гадина!!!
Он рвал в клочья оставленные на диване юбку и кофту Веры и повторял и повторял "сука... гадина..." Сумка валялась тут же. Маруськин запустил в неё руку и выловил несколько клетчатых листков, сложенных пополам. Она писала подружке...
"Киви... киви…" – выливая на стол остатки кипящей жидкости, повторял Маруськин.
Ровно в 18-00 Маруськин с перевязанной рукой, застегнутый на все пуговицы и гладко выбритый заступил в наряд. Ему выдали табельное оружие – пистолет Макарова. В 18-15 Маруськин вернулся в свою квартиру. Жены по-прежнему не было. Он зашел в туалет, сел на горшок, расстегнул кобуру, вынул пистолет и взвел курок.
Сконвертировано и опубликовано на http://SamoLit.com/