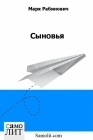Предисловие
Эту историю рассказал мне один мой заочный знакомый, с которым я познакомился на просторах Сети. Острый на язык, хороший собеседник и многогранный, интересный человек, наряду с множеством достоинств он обладает одним серьезным недостатком. Дело в том, что он родился и вырос в Одессе, поэтому я бы не советовал вам верить ни одному его слову, и, в особенности, этой истории. Да и вообще, повесть сия вызывает множество вопросов как натянутостью ее сюжета, так и бьющей через край сентиментальностью. Ну просто не могло быть такого в реальной, не книжной жизни. Однако бывают иногда ситуации, когда следует воздержаться от каверзных вопросов и просто слушать. Вот и в тот раз, я, с трудом удержавшись от комментариев, выслушал это повествование до конца и задумался. Теперь я пересказываю эту повесть для тебя, мой Читатель, в надежде, что и ты задумаешься.
Глава первая. Иерусалим, 2024 год
Лях
Иерусалим... У моего деда одно это имя вызывало, надо полагать, душевный трепет, если не приступ религиозного экстаза. А уж кабы он ступил ногой на камни, по которым ходил сам Иисус... Не знаю, такое мне трудно себе даже представить. Но дед уже давно лежит под простым гранитным крестом на городском кладбище и раз в году, когда мне удается вырваться в городок моего детства, я прихожу на его могилу с букетом фиалок. Сам же я плохой католик и, наверное справедливо, Аля, которая за два десятилетия изучила меня лучше, чем я сам, называет меня "агностическим марксистом". Во всяком случае, сегодня Святой Город не вызвал во мне абсолютно ничего хотя бы отдаленно напоминающего душевный трепет. Вот и сейчас, я попирал брусчатку, по которой возможно ходил (а, скорее всего, не ходил) сам Спаситель и думал отнюдь не о божественном. Меня больше всего беспокоила необходимость купить подарки жене и сыну, в сочетании с патологическим неумением такие подарки выбирать. А вокруг меня бушевал всеми красками безалаберный восточный базар и глаза разбегались, не желая концентрироваться. Мимо неслись стада разномастных туристов, торопящихся поставить еще одну галочку в предварительно составленном списке достопримечательностей. И горе тому, кто пропустит хоть одну. Вот молодая японка, с трудом говорящая по-английски, судорожно улыбаясь из последних сил, пытается найти пропущенную ею пятую станцию "Скорбного пути" и похоже, что без этой станции вся ее поездка на Святую Землю потеряет смысл. Обвешанный оружием и разнообразной электроникой израильский патруль, смущенно пожимая плечами, уже терзает свои коммуникаторы в попытке предотвратить трагедию. А мимо них, ни на кого не глядя, меряет ступеньки старик-араб с хвостами моркови и сельдерея, выглядывающими из сумки с надписью: "Пепси". Древний город живет своей жизнью.
Я медленно спускался в базарные недра по щербатым ступеням, наблюдая эту вакханалию красок и звуков, дыша ею. Шаг за шагом я вбираю в себя, пью этот безумный город. Но моих шагов не слышно, потому что и слева и справа от меня владельцы сувенирных лавочек, похожих одна на другую, как два "фольксвагена", расхваливают свой товар на множестве самых разных языков. При виде меня они безошибочно переходят на ломаный польский с солидной примесью русских слов.
— Пане, пане! Выглядач! — кричат они — Наилепши памятки! Дешево!
В конце концов я купил у палестинского араба огромную металлическую пятерню с еврейской молитвой на английском языке. По уверению продавца, эта железяка гарантировала защиту и процветание тому дому, в котором ее повесят. Покойный дед, также как и ксендз соседнего костела, гневно осудили бы такое богохульство, но Алисии это должно было понравиться и я рассчитывал, что магическая пятерня займет почетное место на стене между куклой вуду и монгольским щитом с обратной свастикой. Оставалось еще найти что-нибудь для Мартина, что представлялось мне задачей совершенно запредельной. Но тут мне повезло. В лавочке напротив Башни Давида я нашел бейсболку с символикой израильской армии. Уж не знаю почему, но мой великовозрастных сын неравнодушен к ярким головным уборам. Их у него множество и на очередной персональной выставке его лохматую и безалаберную голову украшает очередная бейсболка. К тому же, похоже, что с переменой головного убора он меняет и мировоззрение. Надеюсь только, что израильское кепи не превратит его в агрессора.
Я достал телефон и проверил время, сверившись с огромными часами на витрине ювелирной лавки. Все верно: переключившись на час вперед, аппарат исправно показывал начало седьмого и о том же сигнализировало проглядывающее сквозь Яффские ворота предзакатное солнце. До встречи с Майей оставалось менее часа, а мне еще предстояло найти рынок Махане Иехуда. Но оказалось, что до рынка можно доехать за пару минут на трамвае и я пришел на место встречи загодя. Ждать мне следовало на углу улицы Агрипас около подземной стоянки, там где на торце дома огромное панно нависает над невзрачной лавочкой. Друзья, побывавшие в этой стране, утверждали, что израильтяне вечно опаздывают и я приготовился к долгому ожиданию. Но Майя, разрушив все стереотипы, тоже появилась заранее. Выглядела она совсем неплохо и я вздохнул с облегчением: учитывая ее преклонный возраст, можно было ожидать и появления инвалидной коляски. Но нет, мне навстречу бодрой походкой шла миниатюрная старушка спортивного вида (если только этот термин применим к старушкам). А ее моложавое лицо выглядело даже лучше, чем на экране компьютера, хотя тут, надо полагать, постаралась косметика.
Познакомился я с ней, разумеется, именно так, как случается большинство знакомств в наше время: через Сеть. Надо признать, что инициатива принадлежала именно ей и поначалу я ничего хорошего от этого не ожидал. Когда она начала рассказывать про семинар с подозрительным названием: "Влияние мультикультурности на межнациональные связи", я заподозрил, что следующей фразой она попросит номер кредитки. Ее ломаный польский и таинственный акцент тоже не вызывали доверия. К тому-же было совершенно непонятно, какое отношение имеет скромный педиатр к межнациональным связям. А вот то, что она не стала форсировать события и предложила продолжить разговор на следующий день, произвело на меня более благоприятное впечатление. На следующий день все оказалось совсем не страшным, а перспектива поехать в экзотическую страну за чужой счёт - заманчивой. К сожалению, мою Алисию никак не хотели отпускать с кафедры и нам пришлось утешаться тем, что бесплатная поездка ей все равно не грозила, а оплачивать билет в разгар туристического сезона было на грани возможностей нашего бюджета. Таким образом я и оказался на улице Агрипас в самый разгар иерусалимского мая.
Знакомиться в Сети легко и приятно. Вначале ты имеешь дело не с самим человеком, а с придуманными им текстами. Даже потом, когда дело доходит до видеоконференции, ты общаешься лишь с грубой проекцией его (или ее) лица на несколько дюймов экрана. Совсем иное дело, когда полузнакомые люди (все-же встречи в Сети не стоит считать полноценными) встречаются вживую. Встретив тот же персонаж в реальной жизни, ты немного теряешься, начинаешь заикаться, "мнешь кепку" по меткому выражению одного моего русского приятеля. Однако, это не смертельно и легко преодолимо при наличии минимальных навыков общения. У меня, как у врача, принимающего пациентов, такие навыки, разумеется, были и поэтому нам относительно быстро удалось преодолеть первоначальное смущение. Уже через пару минут мы двигались по рынку и Майя рассказывала мне какие-то байки про местных торговцев, которые я, признаться, пропускал мимо ушей. Меня значительно больше интересовал предстоящий таинственный семинар и, в особенности, моя роль в нем.
— Дорогая пани Степинска — осторожно прервал я очередной рассказ — Спасибо вам за эту занимательную историю, но мне бы хотелось получше подготовиться к завтрашнему семинару.
— Никакой пани, прошу тебя — рассмеялась Майя — У нас даже Главу Правительства зовут уменьшительным именем. Так что называй меня Майей, пожалуйста.
— И все же... Майя — обращение к пожилой женщине по имени далось мне с известным трудом и я слегка запнулся — Я бы хотел...
— Будет тебе семинар — усмехнулась она — Вот прямо сейчас и будет. Пойдем!
Сказав эту загадочную фразу, она потащила меня вдоль рядов, свернула направо в совсем уже узкий проход, который быстро превратился в подобие обжорного ряда и закончился маленькой неприметной закусочной, предлагающей непонятную еду. Небрежно кивнув толстому мужчине восточного вида, она перекинулась с ним парой слов, после чего толстяк откинул перед нами прилавок и, отодвинув занавеску, пригласил внутрь. За занавеской обнаружилась крохотная комнатушка с двумя круглыми столиками и тремя пластиковыми стульями. Мы осторожно уселись. Хозяин что-то пробормотал и исчез, появившись через минуту с еще одним стулом, родным братом первых трех. Таинственным образом на одном из столиков появилась бутылка с надписью "Арак", графин апельсинового сока и разнообразные неидентифицируемые закуски. Мое недоумение, и без того запредельное, грозило уже перелиться через край и Майя это заметила.
— Не беспокойся, дорогой — мягко сказала она, прикрыв своей морщинистой ладошкой мою — У нас здесь действительно состоится семинар, вот только тема будет несколько иной.
— Иной? — мне никак не удавалось собраться с мыслями.
— Что ты знаешь о своих корнях? — вдруг выпалила она — Кем был твой прадед? А прабабка?
Это было неожиданно, как удар током. При чем тут мои корни? Я задумался, но ненадолго. Историю своего не слишком древнего рода, в особенности по отцовской линии, я знал хорошо, как и полагается уважающему себя поляку.
Она не простиралась столь уж далеко в прошлое, потому что в сентябре 1943-го года моего шестилетнего дедушку подкинули в польское село на Галиции. Родители его предпочли остаться неизвестными. Когда мальчонку нашли, он держал в грязной ручонке записку, в которой была записана русскими буквами его польская фамилия. Сам же он ничего не помнил, кроме своего имени. Сельчане, возможно, могли бы рассказать и больше, но их всех вскоре вырезала банда ОУН. Деда однако, успели передать во Львов, который тогда именовался Лембергом, и поместить в сиротский приют. Вскоре фронт приблизился и приют переехал западнее, в небольшой городок, лежащий вдали как от шоссейных, так и от железных дорог. Расчет оказался верен и то, что долгие годы местные жители считали своим проклятием, спасло их дома от разрушения. Уцелел и приют, а с ним - и мой дед, оказавшись при этом немного западнее советской границы. Приют был на иждивении церкви и даже в эпоху развитого социализма этого никто не оспаривал. Поэтому дед вырос добрым католиком и в том-же духе попытался воспитать своего сына, моего отца. Но тут вмешались власти и, в результате, отец в церковь не ходил и даже какое-то время был коммунистом, но порвал свой партийный билет сразу после выступлений Валенсы. Любопытно то, что никакого конфликта отцов с детьми в нашей семье не было, то ли благодаря христианскому всепрощению деда, то ли благодаря европейской толерантности отца, а, скорее всего, благодаря властному характеру бабки, не допускающей в своем доме разговоров ни о политике, ни о религии. Таким образом я неплохо представлял себе свое генеалогическое древо по мужской линии. Прочие его ветки, впрочем, были не длиннее дедовской, чему поспособствовала та далекая война.
Таким образом, о прабабушках и прадедах я не имел ни малейшего представления. Все это я и рассказал Майе, по прежнему недоумевая и жаждя разъяснений.
— Ну что ж — сказал она — Совсем неплохо. Можно было бы сказать: "исчерпывающе", если бы не одна деталь.
Тут она, в соответствии с законами жанра, мило улыбнулась, ожидая моей предсказуемой реплики. Но не дождалась, потому что я, немного оправившись от первоначального шока, решил игнорировать ее хитрые подходцы и занялся таинственными закусками, нарочито расхваливая каждую из них. Обескуражить старую пани оказалось, однако, не так просто.
— Умница — ухмыльнулась она — Ты тут подкрепись с дороги, только на арак пока не налегай. А я пойду приведу еще кое-кого на наш... семинар.
С этими словами она вышла, откинув занавески, а я сразу потерял интерес к закускам. Загадочная ситуация продолжала оставаться загадочной, но хотя бы прояснился смысл дополнительных стульев. Отсутствовала она с четверть часа и вернулась сопровождаемая двумя типами примерно моих лет. Это и были, надо полагать, остальные участники "семинара". Время от времени "семинаристы" бросали друг на друга очень странные взгляды и тут-же отводили глаза. Все чудесатее и чудесатее, подумал я, но задавать вопросы было пока рано.
— Знакомьтесь — весело сказала Майя по-русски — Это господин ХХ из Польши.
При этих словах она указала на меня острым подбородком и я успел заметить выражение ее глаз. Пани Степинска явно чего-то опасалась, старательно скрывая свое беспокойство неестественно веселым тоном.
— Ну а наши новые гости... — продолжила она — ...это господа YY из Украины и ZZ из России.
Сразу стало понятно беспокойство хозяйки "семинара". Нет, к украинцам у нас сейчас относятся неплохо, особенно после того как Украина стала частью Европы. Точнее, стараются хорошо относиться, как и полагается европейцам. Во время войны это было несложно, ведь так естественно пожалеть несчастных беженцев. И не только пожалеть, но и помочь. Думаю, что ни один украинец, по крайней мере из тех, что прорвались сквозь ад войны и добрались до нашей границы, не сможет упрекнуть поляков в ни в черствости, ни в равнодушии. После войны, однако, снова начали всплывать старые обиды. Особенно, теперь, когда они получили право работать по всей Европе, вызвав этим невиданный всплеск безработицы и рецессию. А ведь где-то там, глубоко в подвалах нашей генетической памяти, до сих пор полыхают пожары гайдаматчины, валяются вдоль дорог женщины со вспоротыми животами и звучат проклятые имена Наливайки и Хмельницкого. Волынскую резню тоже нелегко забыть.
Однако, если украинцев мы недолюбливаем, тщательно скрывая это даже от самих себя, то русских мы просто терпеть не можем и даже не пытаемся это скрыть. А ведь они до сих не покаялись за Катынский расстрел и за многое другое. Причем нас же при этом обвиняют в заносчивости. Про Украинскую войну я уже и не говорю. В общем, сомневаюсь, что на моем лице была написана безумная радость и я лишь старался изо всех сил, чтобы на этом лице не проявились мои истинные чувства. Со мной "семинаристы" поздоровались весьма сухо, что свидетельствовало о взаимности нашей антипатии. Ну а друг на друга они и вовсе смотрели волком и мне даже показалось, что сейчас между ними проскочит фиолетовая молния, снимая некие наведенные потенциалы. Впрочем, будучи гуманитарием, мыслю я, надо полагать, в неправильных терминах. Ну и хрен бы с ними.
— Как вы уже поняли... — начала Майя, когда Хохол и Кацап расселись — ...наш семинар представляет из себя сугубо семейное дело.
Я подумал, грешным делом, что ровным счетом ничего не понимаю и двое других были, похоже, того же мнения. Именно это меня и раздражает в евреях. Нет, я против них ничего не имею, но не стоило бы им так уж явно демонстрировать свое умственное превосходство. Вот и теперь пани Степинска явно наслаждалась нашим недоумением.
— А нельзя ли ближе к делу? — не выдержал Кацап.
— Хорошо — Майя задумалась, наверное затрудняясь сформулировать свою мысль — Дело в том, что все мы в какой-то степени родственники.
Я, признаться, уже давно ожидал чего-то в этом, поэтому мне удалось сохранить хладнокровие. А вот Хохол и Кацап вскочили почти одновременно и так-же синхронно шлепнулись обратно. Зрелище, надо сказать, было презабавное, но никто не засмеялся.
— Все просто — сказала израильтянка — Трое ваших дедов было родными братьями, причем погодками.
Пся крев, подумал я, только этого мне не и хватало. Дал же Господь родственничков. Украинец и русский! А китайцев прабабушка не рожала?
— А вот теперь самое время выпить — неестественно бодро сказала Майя и начала разливать арак по маленьким стаканчикам.
Хохол
Этот самый арак оказался обыкновенной анисовкой. Но пора было перестать тупо молчать и хоть что-нибудь сказать.
— А вы, Майя — спросил я — Вы нам кто?
— У ваших дедов была еще и сестра. Моя мама была четвертым ребенком в семье или, если быть точным, то первым.
— То есть у нас еще и евреи в роду? — спросил Лях, непроизвольно поморщившись.
Да, неполиткорректно подумал я, поляки те еще антисемиты в душе. Впрочем... Но развивать эту мысль мне сразу расхотелось. Стоп... Прежде всего привести мысли в порядок. И как я вообще оказался в этой совершенно чужой мне стране среди совершенно чуждой мне компании?
Госпожа Степинская нашла меня в Харькове, заявившись прямиком ко мне на работу. Надо сказать, что в старой столице мы жили уже второй год и город начинал мне нравиться. Признаться, до войны я его недолюбливал. Я отнюдь не националист и уж точно не фанатик, однако город был в те времена слишком уж русским и это немного раздражало. Помнится, приехав в очередную командировку я три дня не слышал украинской речи, пока со мной не заговорил на моем родном языке администратор ресторана - иссиня-черный негр из Зимбабве. Однако во время войны харьковчане продемонстрировали такую стойкость, что я им все простил. Тем более что сегодня в городе считается неприличным говорить по-русски и повсюду слышится наш певучий язык, хотя и с сильным москальским акцентом. Дома они, конечно, продолжают говорить по-русски, ну и ладно. В Харьков я привез семью через два месяца после окончания боев, соблазненный хорошим местом в штате городской подстанции и обещанием почти не поврежденной квартиры, что было чудом в разрушенном русскими городе. Правда пришлось оставить под Киевом могилку Мии, но ничего, столица не так уж далеко и доченька меня простит. А вот я никогда не прощу, умирать буду, а не прощу. Говорят, к нам приедет по контракту инженер из Санкт-Петербурга, проклятого города. Ну что ж, пусть приезжает. Первым делом плюну ему в морду.
Поэтому, при встрече с Кацапом моим первым желанием было вцепиться ему в глотку. Но теперь мы европейцы и должны уметь справляться со своим интуитивно-подсознательным. Поэтому я сухо поздоровался, но руки, разумеется, не подал. И вообще, больше всего мне хотелось развернуться и уйти. А еще мне хотелось пойти в храм неподалеку и и прочесть "за упокой" Мии, хотя обычно я атеист. Но храм, как мне помнится, был русским, так что это тоже отпадало. Нехотя я проследовал за старухой Степинской, исключительно из уважения к ее возрасту. Но перспектива приобрести москальского родственника (против Ляха я ничего не имею) меня окончательно добила. Поэтому я немедленно поднялся, чтобы покинуть это мерзкое сборище. При этом я старался не смотреть на Кацапа, но все же не удержался, бросил беглый взгляд и этот взгляд швырнул меня обратно на пластиковый стул. Я увидел его руки.
Израильский месяц май, это как наша середина лета, а дождей здесь, похоже, не бывает совсем. Поэтому меня удивило, что Кацап пришел хоть и в легкой фуфайке, но с длинными рукавами. Сейчас он закатал рукава и мне открылись два бурых пятна на его левой руке, чуть повыше локтя. Это меня и подкосило, ведь я знал по каким причинам у русских появляются меланомы. Он взглянул на меня, криво улыбнулся и отвел взгляд. Может он и нарочно закатал рукава, не знаю, да и неважно это, потому что тот, кто добровольно занимался дезактивацией под Сумами, заслуживал хотя бы минимального уважения. Намного легче, впрочем, мне не стало, но и желание вцепиться ему в глотку пропало.
Зато захотелось снова выпить и я долил себе пряной жидкости из бутылки. Вообще-то мне, как истинному украинцу, полагается любить горилку и сало, но я, почему-то, люблю морепродукты и рислинг. Морепродуктами на столе и не пахло как, впрочем, и салом. Поэтому, залив в себя арак одним глотком, я намазал на кусок лепешки непонятной серой пасты из пластиковой миски. Неосторожно откусив большой кусок, я чуть не выплюнул его: вкус был не противным, но настолько необычным, что я не знал, что теперь делать с куском лепешки во рту. В конце-концов я все-же заглотил его судорожным движением гортани.
— Хумус — понимающе сказал Кацап.
Это мудрое замечание ничего не объяснило, да и не нужны мне были его объяснения.
— И что же теперь? Что вы нам предлагаете делать?
Только тут я сообразил, что говорю с ними на своем языке. Остальные трое говорили по-русски, но каждый по своему. Кацап, как и полагается кацапу, говорил так, как положено говорить уважающему себя русскому интеллигенту из центральных мест: Москвы или, не приведи господь, Санкт-Петербурга. Майя говорила с сильным акцентом, наверное израильским. Говорила она почти без ошибок, но иногда путала падежи и забавно тянула гласные в конце слова. Русский Ляха был ужасен, но все же понятен, тем более, что он был густо насыщен смутно знакомыми мне польскими словами. Я же отвечал им исключительно по-украински. Они, надо полагать, решили, что это у меня такая принципиальная позиция, но они ошибались. Никогда не был я упрямо-принципиален и уж точно не так по-глупому. Все обстояло намного хуже. Я просто физически не мог заставить себя говорить на проклятом языке, не смог бы выдавить из себя ни одного ихнего слова. Обнаружилось это сразу после гибели нашей дочурки и расскажи мне кто-нибудь раньше про такое, я бы и сам не поверил, но факт оставался фактом. Меня бесила эта русская дислексика и много раз, наедине с самим собой я пытался произнести простые фразы на этом языке, но изо рта вырывалось лишь нечто напоминающее хрипение немого. Наверное, здесь имел место некий психологический барьер, следствие шока, или еще что-нибудь в том-же роде. Выяснять это мне не хотелось, а объяснять сейчас этим троим - и того меньше. Впрочем, никто мне и слова не сказал. Наверное, им не так уж сложно было понять простые слова на близком языке.
Надо сказать, что соблазнила меня Майя не семинаром, о котором вскользь упомянул Лях, а экскурсией на энергоблок недавно построенной израильской АЭС, которой, как только что выяснилось, в природе не существовало. По правде сказать, на старуху я не сердился, ведь когда еще выберешься на Святую Землю, да еще и на халяву. Жаль только, что Лёля ни за что не соглашалась поехать: Сашко пошел в первый класс и она, не готова была это пропустить. Подумаешь - первый класс! Ему сколько лет учиться, еще успеет возненавидеть эту школу. Впрочем, это я так себя оправдываю, наверное. Но какова старушка Майя! Вот за это я и не люблю евреев: все им надо вывернуться и либо обмануть, либо еще как показать себя. Конечно, не все они такие, но многие. Правду сказать, были и в нашем взводе два еврея, так те все больше молчали. Одного из них убили фашисты под Николаевом, а второй получил пулю в ногу там же. Мы его дотащили до машины медиков и больше я его не видел. Хочется надеяться, что ногу ему сохранили, потому что козак он был правильный. И все же евреев не люблю.
Кацап
Как я понял, Майя в свое время задалась целью заманить нас троих в Израиль и в этот закуток на рынке. Лях упомянул какой-то семинар, а Хохол мрачно проворчал нечто про таинственную электростанцию. Со мной же она не изощрялась в приманках и просто-напросто предложила отдохнуть за счет какой-то невнятной гуманитарной организации, занимающейся такими же как и я инвалидами Сумщины. На работе было затишье, дома меня уже давно никто не ждет и я согласился без колебаний.
В Израиле я побывал один раз как раз перед Украинской войной (некоторые упертые граждане до сих пор называют ее Спецоперацией). Мы с женой гостили тогда у друзей в Нетании и объездили с ними полстраны, добравшись даже до Эйлата. Надо сказать, что еврейское гостеприимство, будучи несомненно искренним, сильно отличается от русского своей назойливостью. Поэтому к началу второй недели мы смертельно устали восхищаться местными видами и хвалить местную еду. Особенно доставал меня хумус, которым полагалось неумеренно восторгаться. Но не надо о грустном... Однако араком нас тогда не потчевали, и слава всевышнему, потому что большей гадости я в жизни своей не пил. Вроде бы нам, русским, полагается любить водку и черный хлеб. Я же, почему-то, предпочитаю морепродукты и рислинг. Но морепродуктов я на столе не обнаружил, впрочем, как и черного хлеба. Ничего не оставалось, кроме как привычно расхваливать хумус, однако не злоупотребляя им. Пусть Хохол эту гадость ест. Или Лях.
Бог с ним, с Ляхом, а вот к украинцам у меня, как у многих русских, отношение двоякое. Их можно уважать за стойкость, восхищаться ими, жалеть, сочувствовать, но не любить. Ну просто не можешь ты любить того, по отношению к кому испытываешь чувство вины. И добро бы, если бы я в ту войну проявил трусость, но нет, все обстояло много хуже. На улицу выходили немногие, но они были. Потом, когда маньяк сдох, так и не добившись Третьей Мировой, они возвращались. Возвращались без выбитых передних зубов, с наспех сросшимися ребрами и с отбитыми почками, но возвращались с победой. Я бы тоже так мог и меня бы не испугали проклятые автозаки и тупые морды силовиков. Но я не сумел переступить через пресловутое чувство национальной гордости. Не смог и все тут. Поэтому и на улицу не вышел. Наверное, мне было бы легче, если бы я бездумно верил зомбирующему ящику и ярким плакатам. Таких было много, да что там, их было большинство. Этим было легче, ведь у них не было выбора. Я же выбрал исконный путь нашей интеллигенции: ничего не делать. Не участвовать, отстраниться, не навредить стране, понимая при этом все ее убожество.
Национальная гордость! Как сказал один мой друг: "Национальная гордость особенно сильна тогда, когда гордиться нечем!" Мой друг был из тех, что вышли на улицу, но меня он ни разу не упрекнул. И все же теперь он мой бывший друг, потому что я не могу смотреть ему в глаза.
Вот такая вот дилемма, хоть в гамлеты записывайся, занимай очередь. Впрочем, душевный разлад всегда был свойственен русской интеллигенции, вот только национальной гордости это почему-то не помогает. А ведь еще Гоголь, согласно текстам школьный сочинений, страдал двойственностью. Впрочем, Николай Васильевич был как раз малороссом, то-есть, по сути, тем же хохлом. Интересно, куда это меня занесло? Что-то я слишком много думаю последнее время. А ведь это очень вредно как для здоровья, так и для национальной гордости. Знаменитое российской самокопание, бессмысленное и бесплодное. Самокопание, плавно переходящее в самобичевание. Мне вспомнилось как я ворочал отвалом бульдозера некогда плодородную, а теперь ядовитую землю сумщины и думал, думал… Тактический ядерный взрыв, конечно, не водородная бомба, но все же напакостил он предостаточно. Нам, конечно, проводили дозиметрию и корректная бельгийская врачиха из миссии МАГАТЭ уже несколько раз предупреждающе поднимала бровь. Но мне было все равно. Нет, неверно, не все равно. Скорее я подспудно хотел, чтобы где-нибудь на теле появились язвы, как знак прощения. Наверное именно поэтому юродивые на Руси так лелеяли свои раны. Но я-то не юродивый, мне-то зачем?
Был один случай, в Харькове, на обратном пути. Я возвращался домой и мне предстояло сесть на троллейбус, который увезет меня в недавно восстановленный аэропорт. Центральная площадь Харькова, Площадь Свободы, если я правильно запомнил, восстановлена еще не была, но прилегающие улицы уже расчистили и починили оборванные троллейбусные провода. Я встал в хвост длинной очереди будущих пассажиров. Нас там стояло человек сорок и было очевидно, что в первую машину все не влезут. Но никто не толкался и не ерзал, не проявлял нетерпение. Студенты уткнулись в свои планшеты, кто-то разговаривал по телефону, остальным, как и мне, оставалось наблюдать привычное зрелище десятка русских добровольцев, разбирающих завалы Госпрома. И только детишки бегали вдоль очереди, сопровождаемые тревожными взглядами родителей. Подошел мужчина в полувоенной одежде и на костылях, встал за мной. Пожилая женщина, под одобрительное молчание очереди, попыталась предложить ему свое место, но он только устало отмахнулся. Я стоял в этой спокойной очереди и мое чувство национальной гордости подвергалось очередному испытанию. У нас, в Питере, не бывает очередей на общественный транспорт: автобусы, троллейбусы и трамваи ходят часто и я никогда не видел их переполненными. И это хорошо, очень хорошо. Но если бы такие очереди были, смогли бы мы стоять в них так же терпеливо, не пытаюсь оттолкнуть ближнего локтями? Ответа у меня не было и это не давало мне покоя всю дорогу до аэропорта.
Вообще-то, моя добровольная командировка на Сумщину продолжалась недолго. Случилось так, что на четвертом месяце дезактивационных работ бельгийская докторша обнаружила долгожданные меланомы на моей левой руке и взбунтовалась. Меня пинками выгнали с территории и из общежития, предложив койку в любом европейском госпитале. Но я отказался, мне хотелось только домой, хотя я и знал, чего мне это будет стоить. Наверное, это был все тот-же застарелый мазохизм, что и на Сумщине. Посудите сами, чем плохо было провести месяц-другой в Швейцарских Альпах, нежиться на белоснежных простынях радиационного санатория, ходить в горы и вдыхать кристально-чистый воздух? Так нет же, приспичило мне таскаться каждый божий день в амбулаторию на Английском проспекте, преодолевая тошноту и слабость в ногах. Госпитальными злоключениями, однако, мои страдания не ограничились Вернувшись, я продолжал ловить на себе косые взгляды тех, кто органически не был способен принять какое-либо мнение, кроме своего. Точнее того, которое казалось им своим, хотя было навязано крупнокалиберной пропагандой. Теперь же даже телевидение пестрило палитрой мнений, не говоря уж о Сети, надо было выбирать, а выбирать они не умели, глухо ворчали в растерянности и мне было их жалко. Легко жалеть чужих людей и безумно тяжело, когда любимые люди бросают на тебя осуждающие взгляды, упрямо поджимая губы. Но об этом мне думать совершенно не хотелось и, чтобы заглушить ненужные сейчас мысли, я попытался высказаться.
— Ну, хорошо — резко сказал я — Обнаружились у меня дальние родственники в ближнем Зарубежье. И что теперь? Надо радоваться? Может меня теперь в Европу пригласят? Так теперь нам и так туда въезд открыт.
Я говорил нарочито грубо, стараясь ни на кого не смотреть, но неожиданно поймал одобряющий взгляд Хохла. Это меня обескуражило и я понизил тон.
— Поймите, Майя — продолжил я спокойнее — У меня этих родственников, седьмой воды на киселе, полна страна, да и за границей хватает. В том числе и в Израиле — добавил я непонятно почему.
У меня, действительно, существовал троюродный брат, живущий где-то между Хайфой и Тель-Авивом. Правда был он евреем только со стороны жены и, к тому-же, большой сволочью. Поэтому никаких контактов я с ним не поддерживал и приплел лишь для красного словца.
Сказав все это, я выдохся и ожидающе обвел глазами всю нашу пеструю компанию. Майя, оказывается, тоже смотрела на меня ободряюще, наверное ждала эти мои слова и подготовила ответ.
— Давайте, я расскажу вам, как все было — начала она.
Глава вторая. Галиция, 1943 год
Лях
Наш капитан обладал множеством достоинств и всего одним, но очень существенным недостатком: недолюбливал штатских. А я был как раз сугубо штатским человеком и звание хорунжего, полученное мной во время обороны Львова, ничего не меняло. Вот и сейчас он только поморщился в ответ на мою неуклюжую попытку поприветствовать его по уставному. Но, как я уже упоминал, достоинств у него было великое множество и одним из них было снисходительное терпение. Его он сейчас и проявил.
— Вот что, хорунжий — начал он — Сходи-ка ты в то село западнее шоссейной дороги, как бишь его...?
— Задебри — подсказал я.
— Именно. Мне доложили, что прибилась к ним одна еврейка и бормочет невесть что про каких-то детей. Так ты пойди и разберись.
— А нам-то что? — удивился я.
— Хорунжий! — прикрикнул на меня капитан.
Я немедленно вытянулся во фрунт, но, вероятно, сделал это недостаточно хорошо, потому что капитан снова поморщился.
— Впрочем, тебе не помешает знать... — тут он сделал длинную паузу — Лондонское командование передало всем отрядам через львовскую ячейку, чтобы мы берегли силы и ни во что не вмешивались.
Капитан был явно нелогичен и у меня появилась к нему пара вопросов. Хотя задать их я не рискнул, они явно были написаны у меня на лице. Капитан это понял и, еще раз поморщившись, объяснил:
— Село-то польское и мы должны выглядеть для них защитниками, хотя по-правде сказать, защитить нам их нечем, да и приказ запрещает.
— Я-то причем?
На этот раз капитан не поморщился, а просто отвернулся и пробурчал почти неразборчиво:
— Дело-то получается, вроде как, политическое. А ты у нас учитель.
До войны я действительно учительствовал в одной львовской гимназии. Как вскоре выяснилось, никаких педагогических талантов у меня не оказалось, любви к детям - совсем мало, к юношеству - и того меньше. Поэтому служба в гимназии не оставила по себе никаких приятный воспоминаний и единственным ее достоинством была ее краткость: вскоре началась война. И все же я не улавливал связи.
— Твоя задача, хорунжий, утихомирить страсти, ежели таковые возникнут... Ну и просто произвести хорошее впечатление.
Последняя фраза прозвучала с несвойственной нашему капитану неуверенностью.
— А что там с детьми, пан капитан? — спросил я.
— Не знаю и знать не хочу — отрезал он — Не хватало нам еще каких-то там детей, да к тому же и еврейских. Ну, все. Исполняй.
— Слушаюсь, пан капитан — браво отрапортовал я, но разворот на носках получился у меня плохо.
Поэтому, даже не посмотрев на очередную гримасу нашего командира, я сразу отправился на выполнение задания. Деревенька Задебри находилась по нашу сторону шоссе, так что опасное форсирование автомобильной трассы мне и двум моим бойцам не грозило. Надо признаться, что узкие полосы шоссейных дорог, да еще и железнодорожные пути, это то немногое, что немцы хоть в какой-то степени контролируют в нашей Галиции. Правда, во Львове немцев полным полно. Сам город они быстренько переименовали в Лемберг и присоединили Галицию к Польше. Казалось бы, надо радоваться, но Польши-то больше нет, вместо нее возникло проклятое Генерал-губернаторство. Большевики с началом войны получили было Галицию в виде платы за очередной раздел Польши, но подавились добычей. Результат, однако, не радовал.
Как бы то ни было, но немцев бояться не следовало. Это не означало, однако, что путь был совсем уж безопасен. Твердой власти в провинции не было, полиция была русинская, но в польские села они заходить опасались и леса не патрулировали. Поэтому, зная дорогу, можно было перемещаться относительно безопасно, лишь бы не напороться на русинское село, что, впрочем, было не столь страшно, потому что банды ОУН базировались где-то на дальних хуторах. В прошлом месяце они вырезали польскую деревню в соседнем районе и нашему отряду приказали совершить акцию возмездия. Я тогда стоял в охранении и в село не входил, чему был несказанно рад. Те же, кто вернулся из сожженной деревни, особой радости не выказывали, смотрели исподлобья и на вопросы не отвечали. Мы их, впрочем, и не расспрашивали. Но в наших местах, к счастью, не было ни сил ОУН ни русинского шуцманшафта. Правда были еще отряды красных партизан. Они получали из Москвы совершенно противоречивые и бестолковые приказы и невозможно было знать заранее, будут ли они сегодня союзниками, врагами или предпочтут нейтралитет. Но красных в Галиции было мало, в наших местах почти совсем не было и ими можно было пренебречь.
До Задебрей мы добрались задолго до полудня. Я выслал вперед бойца, но неожиданностей в селе не обнаружилось и мы вошли в него не слишком опасаясь. Таинственной еврейки там не оказалось, но нам указали на хутор старого Томаша. Итак, первую задачу мы выполнили, продемонстрировав селянам присутствие польской армии. Не уверен, что капитан имел ввиду именно это, но ему придется утереться. Пусть в следующий раз получше формулирует задачу. Оставалось разобраться с еврейкой и какими-то там детьми. До хутора было две версты по проселку и мы бодро зашагали по сухой, по летнему времени земле, соблюдая рекомендованный уставом патрульный порядок. На хуторе меня ждал сюрприз.
С Ривкой я познакомился в студенческие годы на очередной вечеринке. В те времена можно было быть толерантным и порой поляки, русины и евреи веселились вместе, хотя и косо посматривая друг на друга при этом. На Ривку мне указал мой приятель Франек, известный бабник и разгильдяй, погибший впоследствии при обороне Львова.
— Обрати внимание на ту жидовку — сказал он, подмигивая — Дает всем подряд. А ведь неплоха собой, хоть и деревенская.
Франека я знал лучше, чем он сам и по его тону понял, что как раз ему еврейка не дала. И вообще, хотя, как впоследствии выяснилось, я был у Ривки не первым, она оказалась совсем неопытной, что меня, признаться, только распалило. Девушка приехала из своей деревни в город в надежде поступить в университет, но там евреев не слишком жаловали и она стала работать ученицей фармацевта в еврейской аптеке на Узкой улице. Наш роман начался быстро, развивался стремительно и закончился мгновенно. Наверное я, по молодости, воспринимал все слишком легко, верность хранить не собирался и, в один прекрасный вечер, она застала меня с одной немецкой студенткой в позе не допускающей сомнений. В этот момент все и кончилось: Ривка исчезла из города и из моей жизни. Я вначале не придал этому значения, но вскоре с ужасом осознал, что она значила для меня несколько больше, чем забавное приключение. Тогда я начал ее искать, но так и не смог найти. Потом началась война и мне, наконец, удалось ее забыть. А вот теперь она стояла у плетня Томашова хутора и смотрела на меня своими колдовскими оливковыми глазами. Ривка постарела, приобрела несколько глубоких морщин, но ее красота, казалось, никуда не делась, лишь стала еще ярче.
— Это ты? — констатировала она очевидную истину — Ты поможешь?
— Привет, Ривка!
Эти слова я выдавил из себя с большим трудом. Прошлое вернулось. Нет, не вернулось, а выпрыгнуло из неведомых глубин, как чертик из коробочки. Оказывается, я ничего не забыл.
— Ты поможешь? — повторила она.
— В чем? — я все еще не мог прийти в себя.
— Как? Ты не знаешь? Они же забрали детей, наших детей и собираются их убить. Детей!
Последние слова она выкрикнула.
— Чего ты ждешь от меня?
— У вас оружие, вы солдаты. Убейте тех немцев.
Заикаясь и глотая слезы, она рассказала о фольварке близ шоссе в котором над детьми собирались проводить какие-то мерзкие эксперименты. Для этого из львовского гетто, в котором уже почти не оставалось евреев, забрали последних детей. Детей из гетто не хватило и русинские полицаи устроили облавы по деревням, набрав нужное количество. Теперь немцы ждали приезда какого-то важного доктора из Берлина, который и будет проводить те эксперименты.
Она смотрела на меня и надежда уплывала из ее глаз, как вешняя вода. Капитан мог бы и не рассказывать про приказ из Лондона, потому что мы и так ни на кого не нападали и берегли силы, ни во что не вмешиваясь. Многие из бойцов были местными и видели свою задачу в том, чтобы защищать собственные села от плотоядно поглядывающих на них русинских вояк. Случись что и никакие капитаны, как и никакие приказы из Лондона их не остановят. А вот воевать за еврейских детей они не будут. Это я тоже хорошо понимал и немедленно получил подтверждение, оглянувшись на мрачные лица своих бойцов. Понимала и Ривка, она всегда все хорошо понимала.
Из избы вышел мужик средних лет, наверное - Томаш, и уставился на меня ничего не выражающим взглядом. Под его рукой проскользнула кудрявая девочка лет девяти, подбежала к Ривке и прижалась к ее юбке.
— Чего смотришь? — усмехнулась та — Нет, это не твоя дочь. Ты же знаешь, что был у меня не первым. А у меня уж такое правило: от каждого мужчины, которого любила, я беру по ребенку.
"От каждого мужчины по ребенку" рефреном прозвучали во мне ее слова и я вздрогнул. Она это заметила и злобно выкрикнула:
— Да, там и твой сын! Ну что ж, это всего лишь еще один еврей. Забудь об этом и иди своей дорогой.
У вас бывало так, что неожиданность лишает тебя способности мыслить? Нечто в этом роде сейчас случилось со мной. Какое-то время я так и стоял как столб с идиотским видом рассматривая Ривку и не думая абсолютно ни о чем, пока меня не вывел из ступора изрядный толчок моего капрала. Тогда в моей бедной голове начали мелькать беспорядочные, как ружейный огонь новобранцев, мысли. Сын... Мой сын... Почему мне это так важно? Ведь это просто глупость, нонсенс. Ну зачем мне сын-еврей? Я еще молод и успею родить сыновей, многих сыновей. Причем принесет мне их полячка из хорошей семьи, а не безродная женщина, обреченная на гибель тремя ненавидящими ее народами. Я говорил себе эти совершенно правильные слова и понимал их бессмысленность. Мир перевернулся, вселенная вывернулась наизнанку, белое стало черным, а черное - белым. И все это было совершенно неважно, потому что у меня, оказывается, был сын от женщины, которую я когда-то любил и которая любила меня. От такого не отрекаются. Я не отрекаюсь... Не отрекусь... Ведь я не Святой Петр.
— Как его зовут? — спросил я, признавая сына, которого никогда не видел.
Ривка поняла это и жесткие складки на ее лице разгладились. А ведь мысль о том, что она все врет просто не пришла мне в голову. Сама она даже не пыталась показать мне фотографию или еще какое-нибудь доказательство. Мы слишком хорошо знали друг друга.
— Пан хорунжий! — это снова был капрал — Как же вы, совсем один?
Похоже было, что за меня все решили. Впрочем, решили правильно. Это мой сын, мне и воевать. Как легко оказывается решать при отсутствии выбора. Капрал был здоровый мужик на голову выше меня и много шире в плечах. Вместо винтовки он таскал длиннющий "браунинг" и, похоже, пулемет был ему не в тягость. Теперь он протягивал свое оружие мне. Я отдал ему свою винтовку и принял у него тяжеленный пулемет вместе с запасными магазинами. Второй боец отдал мне две гранаты. Еще у меня был трофейный "вальтер" в кобуре на поясе. Могучий арсенал. Вот только что я буду делать один против немецкого гарнизона фольварка? Оба бойца приложили пальцы к конфедераткам, развернулись и вскоре пропали за перелеском. А я даже не вспомнил как из зовут. Ну и ладно, мне это уже не понадобится.
— Постой, не торопись — сказала Ривка, увидев мой воинственные приготовления — Скоро будет подмога.
Это прозвучало прекрасно и я приободрился. Но подмога меня не порадовала. Двое появились из леса с небольшим интервалом и это были последние из тех, с кем мне хотелось идти в бой.
Хохол
Даже в самом страшном кошмаре не могло мне привидеться, что придется идти в бой с ляхом и москалем…
Последнее время у нас было неспокойно. Краевая Экзекутива явно что-то готовила, подробностей никто не знал, но некоторые горячие головы сразу начали проявлять инициативу, не дожидаясь указаний центра. Отряд каких-то придурков вырезал польское село в очень непростом месте. АК-овцы, невероятно обрадовавшись такому славному поводу, немедленно провели свою "акцию возмездия", спалив украинское село и расстреляв половину сельчан. Теперь уже мы готовили свою "акцию возмездия" и удержать козаков не представлялось возможным, да никто и не пытался. Похоже было на то, что эта цепочка "актов возмездия" кончится только со смертью последнего галичанина и тогда немцы без трудов заселят нашу землю. Поэтому немцев я ненавижу пожалуй побольше, чем евреев, несмотря на свою недолгую службу в шуцманшафте, а может и благодаря ей. Впрочем, поляки тоже не вызывают симпатий, про большевиков я и не говорю. Вот и приходится лавировать, вступая в союз то с теми, то с этими. Иногда это не слишком приятные союзы. И вот, в такой непростой момент ко мне заявляется Ривка и требует ей помочь.
Надо сказать честно, что моя справедливая ненависть к жидам подверглась серьезному испытанию после знакомства с Ривкой. Ей тогда, похоже, не было и двадцати пяти и была она красавицей. Все-таки тянет нас, мужиков, порой на экзотику. Потянуло и меня. Я тогда еще не был по уши в политике, хотя речи наших "сечевиков" уже вызывали усиленное сердцебиение. Но так было у всех украинских студентов. Она тогда промелькнула на паре студенческих вечеринок. Промелькнула и исчезла, как и не было ее. Но я ее не забыл и нет-нет, да и вспоминал, особенно по ночам. Потом меня занесло в политику по самое некуда и мне почти удалось ее забыть. Времена были лихие, годы неслись быстро и в эти годы было всякое. Правда в еврейских погромах я тогда (да и потом) не участвовал, и не потому, что любил жидов, вовсе нет. Просто брезговал. Потом польские власти совсем озверели и вскоре мне пришлось покинуть Львов и затаиться в деревне, своей малой родине. На краю нашего села была еврейская слобода и там я неожиданно обнаружил ее. Непонятно откуда она взялась в наших местах, да еще и двумя "довесками", хотя сама она утверждала, что родом как раз из наших мест.
Вот тогда у нас и начался бурный и быстротечный роман. Бурным он был потому что в нас обоих бурлили нерастраченные силы, а быстротечным - по совсем другой причине. Скрыть что-либо от наших сельских мужиков и баб было невозможно и вскоре на меня начали коситься и шептать ругательства в спину. Кончилось тем, что меня вызвали в окружной провод и поговорили более, чем строго. Я тогда, помнится, стоял и тупо смотрел в пол, ожидая, когда все эта говорильня кончится. Но тут проводник привел самый весомый аргумент и аргумент этот меня добил окончательно. Оказывается, в опасности был не столько я, сколько она. В деревне, да и в округе, поговаривали о злой ворожбе и собирались исправить положение самым радикальным образом. Не знаю, может то и вправду была ворожба, но уж точно не злая. Теперь уже я прекрасно понимал, что наш разрыв необходим для ее же безопасности. Мыслишка эта была бесконечно правильной, глубоко мудрой и омерзительно подлой одновременно. Неудивительно, что я вернулся в растерянности и не знал на что решиться. Но решать ничего и не понадобилось, потому что Ривка все понимала лучше меня. В тот-же день она куда-то исчезла с обоими детьми. Ходили слухи, что она скрывается от всех на каком-то хуторе, но у меня хватило ума ее не искать. А вот теперь она, никого не страшась, пришла в село, нашла меня и рассказывает странные вещи.
— Как ты думаешь, что сделает тот доктор с твоим сыном? Или тебе все равно? Евреем больше, евреем меньше. Верно? Да? Да?
Она требовала ответа, вбивая свои злые слова прямо мне в мозг, а я не мог произнести ни слова. Конечно, жиды врут всегда, когда надо и когда не надо, просто по привычке. Но Ривка говорила правду, каким-то непостижимым образом я это знал. К тому же фотография не врала: у парнишки был мой разрез глаз и моя линия подбородка. Там, на карточке, были еще два мальчика и девочка, но сейчас я не хотел об этом думать. Я сейчас думал только об одном: в каком-то фольварке под замком держали моего испуганного сына и собирались убить. Сейчас мне на многое было наплевать: на то что скажут в окружном проводе, на мнение сельчан, на все на свете мнения. Я забыл и то, что мой никогда не виденный сын был жидом, злейшим врагом от рождения. Я все на свете забыл и думал лишь про то, что где-то там немецкий доктор едет убивать моего маленького сынишку. Плоть от плоти, кровь от крови... Хоть я и редко ходил в храм, но знал, что то были жидовские слова. Однако теперь они были единственно правильными. Плоть от плоти...
Ривка куда-то ушла, приказав мне быть на хуторе старого Томаша около Задебрей. Моего согласия она ждать не стала и была права: я готов был слушаться ее так, как не слушал даже своих командиров. Наверное то снова была ворожба, но мне было все равно. Я достал из схрона немецкий пистолет-пулемет и воткнул за пояс два запасных рожка. Три москальских гранаты-лимонки удобно лежали в котомке, проложенные тряпицами. Ну а егерский кинжал у меня всегда на поясе в самодельных ножнах. Пол-каравая житного хлеба и малый круг колбасы хватит на первое время, а дальше я не заглядывал. Прощаться мне было не с кем и я быстро зашагал по неприметной лесной тропе - кратчайшему пути до Задебрей.
Там, на хуторе старого Томаша меня ждал сюрприз, да еще какой. Первым делом мы схватились за оружие. Лях с видимым трудом поднял незнакомый мне ручной пулемет с прищелкнутыми сошками, а москаль нацелил на меня пистолет-пулемет, копию моего, только с десантным прикладом. Я, в свою очередь, тоже не остался в долгу. Палить, однако, никто из нас не собирался, хотя бы потому, что наша троица образовала равносторонний треугольник, в котором ни один из нас не успевал поразить двух других. В моем воспаленном мозгу даже промелькнула мысль, что как раз в таких ситуациях и возникают временные союзы.
— А ну быстро убрали сброю! — прикрикнула на нас Ривка — И марш в хату!
Только тут я заметил винтовку у нее за плечами. Бабам оружие вообще не положено, а если какая и возьмет в руки ружье, то выглядит она с ним до нельзя глупо. Про Ривку, однако, это нельзя было сказать, она и с винтовкой смотрелась как всегда великолепно. Стволы мы, конечно, опустили, но ни в какую хату не пошли и начали выяснять отношения тут-же на бревне около плетня. И вдруг, совершенно неожиданно, у меня обнаружилась парочка самых, что ни на есть пренеприятнейших родственников: лях и москаль. Хоть бы не подчеркивали так свою национальную принадлежность. Так нет же: на голове поляка красовалась щегольская конфедератка, а голову москаля венчала изрядно помятая командирская фуражка да еще и с малиновым околышем. У меня же на голове было старое кепи шуцманшафта, правда уже не с имперским орлом, а с самодельным трезубцем, вырезанным из консервной банки. Я знал. конечно, что был у Ривки не первым и не последним. Понимал я и то, что права ревновать у меня нет. Но лях и москаль? Это уже было слишком. Интересно, от кого у нее дочка? По логике вещей здесь у плетня не хватает какого-нибудь немца или мадьяра. Но однажды она обмолвилась что отца девочки давно нет в живых и тем самым закрыла тему.
Мы долго сидели молча, мрачно поглядывая друг на друга. АК-овец выглядел типичным ляхом: молодой, прилизанный, в почти новом, с иголочки, мундире. Москаль, наоборот, был в летах, кряжистый, мрачный, неопрятный и, как и полагается кацапу, бородатый. Я невольно провел ладонью по подбородку: не мешало бы побриться. Наконец, Лях открыл рот первым:
— Ну, панове, что делать прикажете?
Прозвучало это до нельзя глубокомысленно, да что возьмешь с ляха?
— Если уж мы решили не стрелять друг в друга...
Я, признаться, еще ничего такого не решил, но москаля следовало дослушать, вдруг что-то умное скажет, бывает такое и с москалями.
— ...то надо бы действовать сообща.
Он, как и полагается кацапу, вещал прописные истины, но я решил оставить свое ехидство при себе и спросил:
— Кто-нибудь знает, сколько их там?
— Человек десять или больше — это была Ривка.
Каждый из нас троих говорил на своем языке. Не думаю, что тут имела место принципиальная позиция: просто так было проще, тем более что остальные двое его понимали. Ривка, похоже, знала все три языка одинаково хорошо или, что вернее, одинаково плохо, и отвечала каждому на его языке.
— Доктор! — вдруг выкрикнул Лях.
— Что “доктор”? — спросил я.
— Ну, тот немецкий доктор, или профессор, один хрен!
Лях волновался и выражался до нельзя косноязычно даже на своем языке. Я по-прежнему не понимал, о чем это он, но нутром чувствовал, что здесь что-то есть. Первым сообразил Кацап.
— Засада! — закричал он — нужна засада на дороге.
— Перехватим того доктора и все узнаем — Лях, наконец, совладал со своей речью.
Теперь дошло и до меня. Похоже на то, что и от ляхов и москалей может быть толк. А вот мне не стоило бы быть таким тупым, а то они невесть что об украинцах подумают.
Машину с доктором мы ждали весь остаток дня, всю ночь и еще полдня. Ривку с ее винтовкой мы оставили в перелеске, хотя она тоже рвалась в засаду, а сами засели на покрытых густым орешником холмах по обе стороны дороги. У нашего красного партизана было больше опыта с засадами на дорогах и он объяснил, что не всегда ночная засада лучше. Например, ночью зарево от сгоревшей машины видно издалека, а на звук выстрелов не каждый патруль осмелится появиться. Впрочем, ночью все равно лучше, потому что машин меньше. Но на проселке, ведущем от шоссе к фольварку, машин не было вовсе. Докторская машина показалась за-полдень, если судить по солнцу (свой брегет я разбил в прошлом месяце) и каким-то божьим соизволением она шла без конвоя. Теперь начиналась моя работа. Я вышел на дорогу перед машиной и предупреждающе поднял руку, требуя остановиться. Моя старая форма шуцманшафта должна была по идее вызвать доверие немцев, смущало лишь отсутствие орла на кокарде (трезубец я, конечно, снял).
— В чем дело, шуцман? — спокойно спросил доктор с заднего сиденья.
На всех троих (и водителе, и докторе и даме средних лет, то ли ассистентке, то ли секретарше) была эсэсовская форма. У последних двоих были зеленые погоны зондерфюреров.
— Красные бандиты устроили завал на дороге — сказал я на ломаном немецком.
Доктор попытался возмутиться, но не успел: Кацап, возникший около передней левой дверцы, перерезал водителю горло одним резким профессиональным движением. Он действовал моим егерским кинжалом удивительно ловко и навыки НКВД невольно вызывали восхищение, правда пополам с брезгливостью. Но рассуждать было некогда и мы с Ляхом, схватив под руки благоразумно молчащих доктора и его даму, поволокли их в лес. Кацап загнал машину в кустарник, замаскировал ветками и догнал нас. Теперь можно было приступать к допросу.
— Ну? — угрожающе сказал я — Кто из вас двоих более разговорчив?
Сейчас моя недельная щетина была нам на руку, Кацап тоже был неплох, а вот Ляху следовало держаться подальше, чтобы не портить картину гнусного бандитизма своим прилизанным личиком.
— Господа, господа — пролепетал немец дрожащим голосом — Будьте благоразумны.
— Позвольте, доктор — сказала немка, небрежно отталкивая своего спутника — Здесь несомненно какое-то недоразумение и мы его можем уладить. Насколько мне известно, германское командование не враждует с националистическими группами.
Дама кривила душой, делая вид что не замечает красного партизана. Но голос ее не дрожал.
— Позвольте полюбопытствовать, куда путь держите? — вкрадчивым голосом спросил Лях.
А вот теперь его холодный, нарочито вежливый тон был как раз к месту.
— Тут нет никаких секретов — охотно отозвалась дама (доктор продолжал молчать, судорожно вращая выпученными глазами в разные стороны) — Мы едем в зондеркоманду неподалеку провести небольшой медицинский эксперимент.
— Какой именно? — столь же вкрадчиво спросил Лях.
Его голос подозрительно позванивал, как натянутая струна и я бы не стал обольщаться насчет его спокойствия. Не стала и немка. Теперь и ее голос задрожал.
— Это всего лишь евреи, несколько ничего не значащих евреев.
Там были не просто евреи, а дети и даже я, со всей моей нелюбовью к жидам, не вызвался бы убивать детей. Но там были не просто дети, а наши дети и было уже неважно евреи они или нет.
— Подробнее! — приказал Лях.
Вкрадчивость в его голосе куда-то исчезла. Он уже не выглядел ни прилизанным, ни красавчиком. Сейчас он был страшен и вдруг, ни с того ни сего, я почувствовал симпатию к нему. Усилием воли отогнав наваждение, я приготовился слушать.
— Ну... — немка основательно затянула паузу, наверное не зная, что сказать — Вы же не симпатизируете евреям, я надеюсь?
Нам бы следовало согласно кинуть, но я не смог себя заставить. Остальные тоже.
— Продолжай — проревел Лях.
Он хорошо владел немецким, да к тому же этот язык идеально подходит для отдачи приказов. Немку как будто кто-то подтолкнул:
— У нас гуманная миссия, господа. Их же все равно... — тут она запнулась — ...ликвидируют. Это же евреи.
Она недоуменно смотрела на нас, на тупых туземцев, не понимающих элементарных истин.
— Это же евреи — повторила она — Но мы не желаем, чтобы они страдали...
— И? — прошипел Лях.
— Мы разработали новую методику... Это очень гуманное лекарство... Ребенок просто должен лизнуть ватку.
— И все? — спросил я.
Наверное я произнес это как-то растерянно, что-ли, потому что немка внезапно приободрилась:
— Ну да, разумеется. И никаких страданий. Если у нас получится, то все еврейские дети будут... — она снова запнулась — Будут обработаны самым гуманным образом.
Кацап, похоже, тоже понимал по немецки.
-- Гуманисты!
Он произнес это по-русски и таким тоном, что будь я на месте немецкой дамы, то испугался бы до усрачки. Но она ничего не поняла и радостно залепетала:
— Да, конечно! Теперь вы нас отпустите?
— Отпустим — Лях все еще не мог совладать с голосом.
— Покажите! — приказал я.
— Что? — испугано пропищал доктор.
— Покажите ваше лекарство.
— И ватку — добавил Лях.
Дрожащими руками доктор открыл саквояж и достал обычную аптекарскую склянку с притертой пробкой и пакет ваты.
— Открывай! — приказал я.
Доктор повиновался тупо, как театральный автомат-андроид.
— Капай!
Они уже понимали, что сейчас произойдет и немец попытался пролить “лекарство”, но мы ему не дали.
— Лижи!!
Кацап
Когда меня вызвали к командиру отряда, я насторожился. Ничего хорошего от этого вызова ожидать не приходилось, тем более что в землянке, насколько мне известно, сейчас находился и комиссар. С комиссаром я был на ножах. Сами посудите: два политработника в одном отряде, да, к тому же мой партийный стаж, пожалуй, посерьезней будет. Не удивительно, ведь я еще застал раскулачивание, правда не здесь, в Галиции, а много восточнее. Да не только застал, но и поучаствовал, причем довольно активно. Правда, вспоминать те времена мне не хотелось, очень не хотелось. Но об этом думать ни в коем случае не следовало, а то опять будут сниться кошмары. В общем, по всему, комиссаром полагалось стать мне, а не ему, тем более, что я в этих местах с 39-го и набрался кое-какого опыта. Но в Москве решили иначе, а спорить с Москвой было неразумно.
В землянке меня встретили трое: оба наших отца-командира и какая-то женщина. Женщина сидела в дальнем углу и тусклый свет коптилки до нее не доставал, видно было лишь надвинутый на лоб платок и два сверкающих глаза под ним. Эти глаза мне что-то смутно напомнили, но вспоминать было некогда.
— ...Бог, бог — хрипела женщина — Так же ж неможно, панове-товарищи. Они ж детей малых... Как можно? Вы же сбройны, вы же за народ! Помогите, панове-товарищи! Помогите!
Она бормотала еще что-то и слова теперь вроде бы были другие, но подобострастно-умоляющий смысл этих слов не менялся. По-русски она говорила плохо, все время вставляя польские и украинские слова, да к тому же с сильным еврейским акцентом. Подозреваю, что на наших отцов-командиров это вряд-ли произвело впечатление.
— Вы нас конечно извините, гражданка — вмешался комиссар хорошо поставленным баритоном — Но у нас тут боевая часть, хоть и не регулярная. Так что и задачи перед нами командование ставит боевые. Детей нам, разумеется, жалко, но и распылять свои силы мы не имеем права.
— Ничего сделать не можем. Понимаешь? — прогудел командир — Может вы и сами как-нибудь выкрутитесь? Жиды же умеют выкручиваться. Так? Ну, скажем, заплатите тем немцам. Так?
Командир был из местных и евреев, насколько мне было известно, терпеть не мог, даже не принимал в наш отряд, что, на мой взгляд, было очередной глупостью. Но сейчас он говорил, точнее, старался говорить, неестественно мягко. Вот только получалось у него плохо. Женщина посмотрела на него исподлобья и пробормотала несколько слов на неизвестном мне языке. Впрочем, почему неизвестном? Ведь я явственно расслышал хорошо знакомое мне слово "поц" и внутренне усмехнулся. Командир наш несомненно - орел, но порой то слово подходит к нему как нельзя лучше. Тут он заметил меня и вытолкнув прочь из землянки, вышел и сам.
— Слухай — сказал он — Ты бы с ней поговорил, а? А то еще устроит нам тут бучу, бойцов растревожит. А у нас и без нее этот, как говорит комиссар, боевой дух...
— А что "боевой дух"? — с наигранной наивностью спросил я, придав голосу серьезности.
Может наш командир и был порой "поц", но дураком он не был никогда и мое ехидство раскусил сразу.
— В общем, ты меня понял. Вот и действуй.
— Есть, товарищ командир — вытягиваться в струнку я не стал, боясь переиграть — Только почему я?
— Да, вроде бы эта баба тебя знает.
Вот тут-то у меня в голове все собралось воедино: и знакомые глаза, и акцент, и единственное известное мне слово на идиш, и я наконец понял кем была та женщина в землянке.
Командир скрылся в землянке и вскоре оттуда вышла женщина с перекошенным от злобы лицом. Это была, разумеется, Ривка. Мы с ней познакомились сразу после освобождения Западной Украины. Я был тогда инструктором райкома - значительная по тем временам должность, наделенная немалой властью. В те годы ситуация в Галиции складывалась непростая. Местное население было напрочь развращено капиталистической пропагандой и заражено мелкобуржуазной идеологией, поэтому коллективизация двигалась туго, точнее - не двигалась совсем. Тогда кому-то в Киеве пришла в голову гениальная идея: использовать прогрессивную еврейскую молодежь. Так я вышел на Ривку. Вообще-то, она была не столь уж молодой и, к тому же, поднимала троих детей, но несомненно подходила под наши критерии: неимущая, отверженная и гордая. Для начала я попытался записать ее в комсомол и неожиданно получил решительный, даже грубый отказ. Мне хорошо было известно, как следует поступать в подобных случаях и любая другая уже давно бы валила пихты на Дальнем Востоке, но я неожиданно для самого себя влюбился. Удивляться этому не приходилось: она, несмотря на возраст и троих детей, была необыкновенно красива какой-то иноземной, непривычной красотой. Я тогда только-только разменял свой пятый десяток и совершенно непонятно, что она во мне нашла. А ведь нашла же что-то, потому что более гордой женщины я не встречал и никто не смог бы заставить Ривку поступить против ее воли. Ни за какие коврижки, уж я-то знаю. В проклятом июне, когда пришли немцы, я не смог уговорить ее бросить дом, хотя и знал из секретной директивы, что немцы делают с евреями. Приказ обкома я нарушить не осмелился и пришлось мне тогда одному уходить на восток. Не прошло и недели, как ее дом сожгли соседи, а ей самой с детьми пришлось скрываться. Но я об этом не знал и узнал только сейчас из ее уст. Наверное, в ней давно все перегорело, потому что о скитаниях, блужданию по хуторам и голоде она рассказывала совершенно беспристрастным голосом, как сводку читала. А еще выяснилось, что у меня есть сын. Это известие было неожиданным, как удар обухом по голове. Мне ли не знать, ведь меня однажды хорошенько приложили топором в самом начале коллективизации. Нет, Ривка не врала, она была слишком гордой для этого. Не врала и фотокарточка. А вот теперь моего сына собирались убить.
Странно... За те четыре десятка лет, что я прожил на этой земле, у меня было немало женщин. Были наверное и дети, здесь и там, случайные плоды коротких забав. Вот только меня это никогда не волновало, как не волнует то, о чем не ведаешь. А теперь на меня смотрели с фотографии испуганные круглые глаза и это был мой сын. Может быть все дело было в том, что это был ребенок от любимой женщины? Не знаю и не буду стараться понять. В единый миг все изменилось, стало совершенно иначе, не таким как раньше. Неважное стало единственно важным, а некогда важное - незначительным и мелким. Где-то там, среди незначительных вещей был наш отряд, комиссар, Москва и сам... Но так далеко не следовало заходить даже в мыслях. Важным же стал маленький напуганный мальчик в далеком фольварке и оливкового цвета любимые глаза напротив.
Вот так и получилось, что пришлось идти в бой рука об руку с идеологическими противниками. Ничего, товарищ Сталин тоже признает временные союзы. Ревность меня почему-то не мучила, наверное потому, что я был у Ривки последним. А может быть... Не знаю. Ну а те двое… Оба они были буржуазными недобитками и оба были классовыми врагами. Впрочем, поляки вроде бы наши союзники? Или нет? Конечно союзники, вспомнил я недавнюю статью на развороте "Правды", доставленную курьером из бригады Ковпака. С ОУНовцами, которых почему-то начали называть бандеровцами, у нас тоже сейчас перемирие. Поэтому никаких приказов я, вроде бы, не нарушал. По крайней мере мне хотелось так думать. К тому же буржуазные недобитки казались, по крайней мере на первый взгляд, надежными бойцами…
"Лекарство" сработало великолепно и немцы действительно умерли без мучений, о чем я даже немного пожалел. Но сейчас это было неважно: надо было штурмовать фольварк. Мне не слишком хотелось надевать фашистскую форму, но выхода не было. Наш западенец и так носил черную полицейскую форму, что было нам на руку, а поляк наотрез отказался снять свой щегольский мундир, объясняя это какой-то туманной "конвенцией". Хорошо хоть мы убедили его конфедератку снять. Поэтому именно на меня напялили эсэсовский мундир покойного доктора с дурацкими зелеными погонами, украшенными серебряным витым кантом. Мундир неожиданно оказался мне в пору, но немец из меня был никакой. По ихнему я знал лишь пару десятков слов, самыми важными из которых были "хенде хох" и "нихт шиссен". Хотелось надеяться, что нам это не понадобится.
Фольварк стоял на невысоком пригорке и был последним местом, которое я хотел бы штурмовать втроем с одним лишь подозрительным пулеметом. Да, немцы умели строить и здесь идеально сочетался и уют и защита. Весело посверкивала на солнце красно-бурая черепица покатой крыши, блестели свежей краской голубые наличники окон, но толстые аккуратно побеленные стены и небольшие окна, похожие на бойницы, не оставляли надежды. Нас могли спасти только внезапность и удача. Ривку мы высадили за поворотом и велели тихо сидеть на опушке и не высовываться, а сами осторожно двинулись вперед. Хохол оказался тем еще водителем: он судорожно вцепился руль и вел "опель" рывками, я же неумело развалился на заднем сидение, заботясь лишь о том, чтобы не упала эсэсовская фуражка, которая оказалась мне мала. В конце концов я ее снял и прикрыл ею взведенный наган в правой руке. У меня в ногах съежился Лях, едва поместившийся там со своим несуразным пулеметом. Метров за сто до здания мы уткнулись в шлагбаум, к которому подошли два немца в форме фельджандармов с дурацкими горжетами, болтающимися на металлических цепочках, как медаль огромного сенбернара.
— Доктор фон Штакельберг? — осведомился старший, позевывая.
Я лениво кивнул головой и жандарм поплелся открывать шлагбаум. Двое, судя по всему - офицеры, вышли на крыльцо синхронно поправляя широкие подтяжки. Еще двое немцев чинили грузовик, отрыв капот. Итак, шестеро на улице и примерно столько же в доме. Слева от дома большой сарай, а может и конюшня. Огромная дверь заложена бревном, узкие окна заколочены досками крест-накрест. Дети там. Теперь нам оставалось доехать до крыльца и расстрелять в упор ничего не подозревающих, полусонных врагов. И тут я увидел, что один из офицеров бежит к шлагбауму и насторожился. Немец был в белой, немного грязноватой сорочке, на нем не было ни кителя, ни кобуры на поясе, ни иного оружия. И все же я забеспокоился.
— Извините — с трудом переводя дыхание выговорил он, еще не успев добежать до машины — А где фрау Цайтлер?
Тут я с удивление и ужасом понял, что понимаю по-немецки. Но фрау Цайтлер в машине не было и быть не могло, потому что, наспех присыпанная сухими листьями, она лежала двумя верстами западнее. На красивом лице немца медленно начало появляться недоумение: возможно эта фрау была ему очень важна или даже дорога. Поэтому он не сдержался и сделал то, что воспитанному офицеру Вермахта делать не следовало: заглянул в салон "опеля". Этого ему не следовало делать и по другой причине: там он увидел Ляха под задним сидением. Недоумение на лице немца сменилось безграничным удивлением, но дальше этого дело не пошло, потому что я дважды выстрелил из своего нагана ему в лицо. Теперь на его лице не было уже никакого выражения, да и лица, как такового, больше не было. Он еще каким-то образом сумел сделать шаг назад и повалился на спину, великодушно открывая мне сектор обстрела.
В самый нужный момент оружие имеет привычку застревать или его заклинивает. Вот и сейчас мой автомат зацепился за сидение и ни за что не хотел лечь мне в руки, а Лях недопустимо медленно выбирался из машины, задевая длинным стволом пулемета за все, что можно. Не оставляя отчаянных попыток освободить непослушный автомат левой рукой, я разрядил свой наган по жандармам и, разумеется, промахнулся. Положение исправил Хохол. С длинным истошным криком, в котором послышались все знакомые мне ругательства, он кубарем вылетел из машины и срезал обоих жандармов одной длинной очередью, опустошившей магазин его автомата. Два механика у грузовика, с трудом разогнув спины, ошалело смотрели на нас, еще ничего не соображая, а у крыльца в ступоре застыл второй офицер. Нам повезло, застряла в голове ненужная сейчас мысль. Ни двое механиков, ни жандармы, ни офицер у крыльца явно не были фронтовиками, иначе бы они не подарили нам эти бесценные мгновения растерянности.
Наконец я справился с автоматом, окончательно погубив кожаную обивку "опеля", а Лях выбрался из-под заднего сидения и взмахнул своим пулеметом. Но он забыл загнать патрон в казенник и пулемет тупо промолчал. Хохол, перезаряжающий свое оружие проорал что-то совсем уж грязное про поляков. До крыльца было слишком далеко, но обоих механиков, так и не успевших спрятаться, я достал такой-же, как и у Хохла опустошительной очередью. Наконец Лях справился с пулеметом и, обрушив его на капот "опеля", ударил по крыльцу. Как раз в этот момент офицер, уже вышедший из ступора, удачно столкнулся на крыльце с двумя солдатами, бегущими ему на подмогу. Короткая очередь из "браунинга" снесла всех троих и за это я тут же простил Ляху все. Оставался короткий бросок до крыльца и фольварк будет в наших руках. И тут нас накрыл пулемет.
В гарнизоне фольварка оказался фронтовик и нас, наверное, спасло только низкое солнце, мешающее ему прицелиться. Прошла минута или две, но пулеметчик в окне, похоже, не ведал усталости. Пули выбивали барабанную дробь и куски металла из "опеля" и мы с Хохлом, съежившись за остатками машины, чувствовали себя совершенно беспомощными. Лях лежал за большим камнем и пытался отвечать короткими очередями, но "браунингу" было далеко до немецкого МГ-38, а неопытному Ляху - до немецкого пулеметчика. Я выставил автомат и не глядя выпустил пол-магазина.
— Прекрати, сука большевистская — закричал Хохол — Нет смысла!
Он был прав: огонь наших автоматов не доставал до немцев. Нам даже никто не отвечал: пулеметчик сосредоточил непрерывный огонь на АК-овце. У немцев что, патроны не кончаются, пронеслась в голове идиотская мысль? Пули взрывали землю вокруг Ляха, тот палил в белый свет как в копеечку и было ясно, что этот бой мы проигрываем. Я видел, как поляк защелкнул в свой пулемет последний магазин и передернул затвор. Еще двадцать патронов, несколько коротких очередей. А что потом? Вражеский пулемет внезапно замолчал, молчал и пулемет Ляха. Эхо выстрелов докатилось до леса, отразилось, вернулось тихим шепотом, и наступила тишина. Мы ждали непонятно чего и ничего хорошего нам ждать не приходилось.
У маузеровской винтовки звук сухой и негромкий, совсем нестрашный. Я увидел, как пуля чиркнула по беленой стене далеко от немецкого пулемета. Раструб пулемета повернулся, срез его ствола расцвел оранжевым цветком и мир снова наполнился грохотом. С низких осинок на опушке полетели обломки веток.
— Ривка — заорал Лях — там же Ривка!
Он встал на колено и повел стволом слева направо, выстреливая последний магазин. Его пулемет радостно загрохотал, наверно зная что поет свою последнюю песню. Дурак, подумал я, неумный дурак. Но я тоже был дураком, и уже несся к дому, к благословенной мертвой зоне под его стенами, выпуская бессмысленные очереди из бесполезного автомата. Краем глаза я увидел как Лях падает на спину, продолжая расстреливать небо, а бегущий рядом со мной Хохол достает на бегу гранату… Потом было еще что-то: грохот взрывов, свист осколков над ухом, окровавленные серые мундиры, чьи-то испуганные глаза и выстрелы в упор. Палили в меня и я палил тоже. Нет, ничего не помню! Минуты, а может и часы выпали из памяти и решительно не собирались возвращаться. Впрочем, я и сам не хотел ничего помнить.
Я пришел в себя на полпути между горящим фольварком и лесом. Мы с Хохлом держали Ляха под мышки и тащили по перепачканной грязью траве. На то, чтобы поднять его и понести у нас не осталось сил. Свое оружие он так и не выпустил из рук и теперь пулемет без магазина волочился за ним по пашне, задевая за каждый камень. Надо было остановиться, размотать ремень и бросить бесполезную железяку, но мы не хотели отпускать Ляха и так и продолжали тащиться, волоча и его и пустой пулемет. Следом за нами, не отставая ни на шаг, шли дети.
— Оставьте меня — прохрипел Лях, выплевывая сгустки крови — Бросьте меня. Мне уже немного осталось... Хочу только увидеть сына… Сына… Она так и не сказала как его зовут.
Он говорил по-польски, забыв, наверное, все русские и украинские слова. Но мы каким-то образом его понимали, каждое его слово. Вот только сына мы ему показать не могли. За нами шло два десятка детей и мы не только не знали, кто из них его сын, но и своих-то не смогли бы распознать среди этих чумазых и испуганных пацанов и пацанок. Мы положили Ляха на землю и Хохол схватил в охапку первого же попавшегося парнишку, самого, наверное, старшего из всех.
— Вот — хрипло сказал он — Вот твой сын. Такая же надменная польская рожа, как и у тебя. Ты уж не умирай пожалуйста, чтоб я смог потом по этой твоей роже настучать.
— Не выйдет… Придется тебе уж кому другому... Сынок? Ты меня слышишь? — он говорил с трудом.
В этом момент я почему-то страшно испугался, что пацан сейчас заорет: "Ты не мой батя", или что-то в этом роде. Я видел как Хохол судорожно сжал маленькую ладошку и пацан не подвел нас.
— Слухаю, тату — едва слышно прошептал он.
— Ты, когда подрастешь... — сейчас он едва выговаривал слова — Ты там... Не думай... Среди русских и русинов тоже... Нельзя всех… Надо только...
Договорить он уже не успел, но мы его поняли. Не знаю только, понял ли пацан. Хочется надеяться, что понял. Понял и запомнил. Хотя что толку, ведь он лишь один из многих? Да и вряд ли он понял.
Со стороны пестрого по осеннему времени желто-красно-рыжего перелеска к нам уже бежала Ривка. Впрочем, она не бежала, а шла и шла она с каждым шагом все медленнее и медленнее. Винтовки у нее уже не было. Трое пацанов с криком бросились к ней. Тогда она упала…
Потом, много позже, когда мы уже давно похоронили Ривку и пристроили своих сыновей, нам снова довелось встретиться в лесу под Ровно. Наш отряд шел на соединение с Ковпаком, у нас был приказ не воевать с националистами, у них, думаю, тоже, и встреча обошлась без пальбы. Он командовал сотней, а я уже был комиссаром отряда, вместо прежнего, погибшего во время похода и мы встретились, чтобы согласовать маршруты и, упаси господи, не перестрелять друг друга. Хохол мне тогда сказал:
— Ты только не подумай, что если я не пустил в тебя пулю, то и вашу москальскую власть приму. Не надейся. Как бился я за свободную Украину, так и дальше буду.
— Все верно — ответил я — А я буду бороться за дело Ленина и Сталина.
— Так что же? — туманно спросил Хохол.
Но я его понял. "Что-же изменилось? И изменилось ли что-либо?" -- хотел спросить он. Мы ведь сейчас разойдемся в совершенно разные стороны. Если я и увижу его еще когда, то разве что через прорезь прицела. И тогда я не задумаюсь нажать на курок. Или, может быть задумаюсь ненадолго, совсем ненадолго, лишь на долю мгновения. Потом я, конечно, все равно выстрелю. Но она, эта доля мгновения, всегда будет со мной, где-то там в нагрудном кармане, между партбилетом и портретом товарища Сталина.
Потом он пошел в лес, наверное искать своих бандеровцев, а я поплелся по проселку в сторону нашей базы. Я не обернулся, да и он, наверняка, тоже.
Глава третья. Иерусалим, 2024 год
Лях
— А дальше? Что было дальше? — непроизвольно вырвалось у меня — Вы же знаете, правда?
— Да, мне удалось кое-что узнать — Майя повернулась к Хохлу — Твой прадед воевал в дивизии СС "Галитчина" и погиб под Бродами.
На мой взгляд этим не стоило гордиться, хотя Хохол, возможно, считал иначе. Но он ничего не сказал, только молча кивнул, наверное знал и раньше.
— А твой прадед — теперь она обращалась к Кацапу — Погиб в январе 45-го в бою с отрядом ОУН.
Кацап, похоже, этого не знал и заинтересованно смотрел на нее.
— Вот только… — она обвела нас насмешливым взглядом — Есть тут одна пикантная деталь.
— Еще какая-нибудь гадость? — спросил Хохол.
— Что-то серьезное? — осторожно поинтересовался Кацап.
— Да так... Мелочь — она сделала длинную, эффектную паузу — Они принесли умирающую Ривку на хутор, где мама вместе с ней пряталась у дяди Томаша. Томаша вскоре тоже убили, а кто - не знаю, может оуновцы, может немцы, а может и красные. Маме тогда было десять лет, но помнила она это так, как будто то было вчера и рассказывала так часто, что мне начало казаться, как будто я сама была на том хуторе…
Двое мужчин стояли над умирающей женщиной, а трое мальчишек забились в угол и, съежившись, молчали. Молчал и старый Томаш, его глаза, как обычно, были пусты. К его спине судорожно прижалась девочка.
— Сами решайте — сказала Ривка.
А потом она умерла, так и не сказав им, кто из мальчишек чей сын. Наверное, не хотела говорить, а может и не успела. Те двое еще долго стояли молча, потому что сказать им было нечего. Перед ними стояло трое пацанов и двое были их сыновьями, а один сыном Ляха. Наверное, можно было сравнить лица, но все трое были одинаково чумазы и одинаково испуганно смотрели на них оливковыми ривкиными глазами. Дети даже казались одного роста, хотя и были погодками. Надо было что-то решать и любое решение было одинаково неправильным, а любое действие - кощунством. Тогда один из них медленно положил руку на плечо тому мальчонке, что был к нему ближе всех и посмотрел на второго. Тот кивнул и взял за руку другого мальчика. Третий мальчишка, которому предстояло стать поляком, смотрел на них со страхом, но старый Томаш обнял и его. Так те двое ушли с хутора и из нашей памяти, уводя маминых братьев.
Хохол
— Так кто же вы такие? — поначалу эта фраза была обращена к нам троим, но потом она решила разобраться сначала со мной и вперила в меня острый указательный палец с коротко, не по-женски, остриженным ногтем — Что-то я не видела, чтобы ты скакал. Не иначе, как москаль.
— А ты? — она обратилась к Кацапу — Сало любишь? По глазам вижу, что любишь. Так кто же ты после этого?
— Да и в тебе... — теперь она взялась за Ляха — ...что-то не заметно польского гонору. Все вы подменыши.
— Бросьте, Майя — примирительно проворчал Лях — Человека формирует его окружение...
— …Среда, в которой он вырос — добавил Кацап.
— Да? — она хитро прищурилась — Возможно, что и так. Или не совсем так? Так вы думаете, что кровь ничего не значит? Совсем ничего?
— Ну, не знаю…
Я пробормотал эти слова, ненавидя сам себя за неубедительность своих слов. Но откуда, черт побери, могут взяться убедительные слова? Для этого нужна ясность, а ею здесь и не пахло.
— Если так рассуждать — сказал Лях — то мы тут все евреи.
Я нервно хихикнул, Кацап так просто рассмеялся в голос, да и Лях, глядя на нас двоих, расхохотался. Вам когда-нибудь доводилось прерывать заливистый смех на середине, не отсмеявшись до конца? Именно это и произошло, когда мы взглянули на Майю. Она тоже улыбнулась, но это была какая-то снисходительная улыбка. У нас так смотрят на деревенских дурачков, а может мне просто показалось.
— Что? — удивленно спросил Лях.
— Вы нас считаете евреями? — осторожно поинтересовался интеллигентный Кацап.
— Еще не знаю — задумчиво ответила она — Поживем - увидим. Боюсь только раввинат со мной не согласится.
Мы замолчали и продолжали молчать, затягивая паузу до неприличия. Интересно, о чем думают мои свеже-обретенные родственники? И о чем думаю я? А что, если она права, неформально, как-то по-своему, но все же права? Тогда многое становится понятным. Например то, почему я вечно недоволен собой: я же евреев терпеть не могу. И еще мне подумалось, что может и не стоит плевать в лицо тому питерскому инженеру? Вдруг его тоже подменили в детстве?
Вероятно, в каждом из нас заложен известный запас прочности, как в тех машинах, которые я проектирую. Наверное, мой запас прочности исчерпал себя, потратив все душевные силы на воспоминания о Мие, ненависть, в том числе и к самому себе, на мысли, которые я долго не допускал в свое сознание и прочую, плохо формулируемую мутотень. Что-то сломалось во мне и я истошно завопил на весь иерусалимский рынок:
— Так что же это получается? Скажите же мне! Скажите! Что еще, черт побери, сидит в каждом из нас? Почему мы не можем никуда деться друг от друга?
Кацап посмотрел на меня очень странно и только тут я понял, что выпалил это по-русски. Тогда я закрыл лицо руками и заплакал.
Кацап
Эти фразы Хохол выкрикнул как-то странно. Нет, его русский язык был совсем неплох и даже фрикативное "Г" не слишком резало слух. И все же было нечто неестественное в том, как он выдавил из себя эти слова, как будто преодолевая невидимую преграду или, скорее, выталкивая из себя некую невидимую пробку. Когда он закрыл лицо руками и затрясся в рыданиях, у меня мелькнула догадка о том, почему он раньше говорил только по украински. Мне ведь, как психологу, неоднократно приходилось сталкиваться с подобным. Догадка эта была смутной, до нельзя неприятной, но, к счастью, она не успела оформиться в слова, прежде чем я загнал ее обратно, в глубины подсознания. Вот пусть там и сидит, зараза. Надо было бы подойти к Хохлу, обнять и сказать добрые слова. Но я боялся, что он меня оттолкнет, да и не было у меня правильных слов. Их настолько не было, что я даже испугался, что и у меня начались проблемы с русским языком. Ну и хрен с ним, подумало мое подлое подсознание, будешь тогда говорить по-украински, ты же научился там, под Сумами. Лях, похоже, ничего не понимал и благоразумно помалкивал. Майя же, наоборот, понимала все, но тоже молчала. Она лишь накрыла своей морщинистой ладошкой... нет не руку Хохла, а, почему-то, мою…
Давным-давно стемнело и на рынке закрывали последние лавочки, с грохотом опуская стальные жалюзи, разрисованные яркими граффити. Выйдя из лабиринта торговых рядов на пустынную по ночному времени улицу Агрипас, мы остановились. Нам предстояло разойтись, каждому в свою гостиницу и каждому в свою жизнь. Трое дальних родственников, очень разных людей и совершенно чужих друг другу. Ну что ж, мы так и сделали: я пошел налево, Лях направо, а Хохол перешел улицу. Вот и все, подумал я. Только не надо оборачиваться, не надо показывать слабость. Хохол-то ведь точно не обернется, да и Лях вряд-ли. Но я все же обернулся...
Те двое смотрели на меня.
Сконвертировано и опубликовано на https://SamoLit.com/